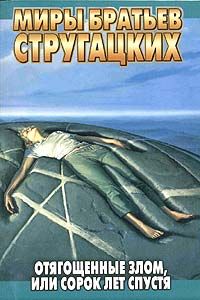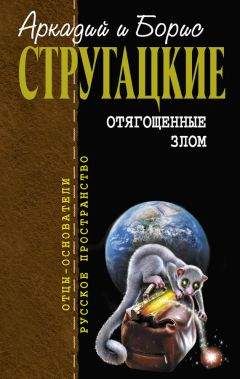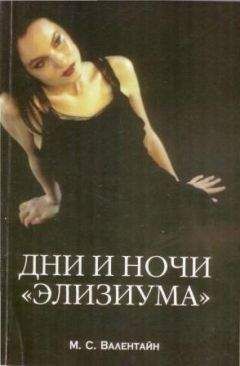Елена Гайворонская - Тринадцатый пророк
Чудо?
Я поднял голову. Сверху беспощадно жгло пустынное солнце – слепящий огненно-рыжий шар. Я смотрел на него, не отрываясь, не отводя глаз, не пряча их за занавесом век или пеленой спасительных слёз – кто кого…
«Пожалуйста, – твердил я мысленно, – ну, пожалуйста! Я знаю: чудес не хватает на всех, но пусть сегодня я буду первым в списке!»
Иссиня-чёрная туча заволокла небосклон, скрыв побеждённое светило. Всего на минуту, но и её оказалось достаточно, потому что из толстого чёрного брюха полетели, кружась, танцуя в воздухе большие снежинки. Они застревали в пушистых волосах Магдалин, превращая её в Снегурочку. Падали на подставленную ладонь, отражались в распахнутых глазах и угасали медленно, как морские звёзды на берегу.
– Боже мой… – прошептала Магдалин, и её лицо озарилось лучистым светом. – Что это?
Это снег, – сказал я, обретя вдруг небывалую ясность мыслей и лёгкость во всём теле. Взял её руку, ощутил тёплую хрупкость каждого пальца, обжёг дыханием похолодевшую в зимней сказке ладонь. А солнце уже вновь жарило на полную мощь, желая отыграться за своё кратковременное поражение.
– «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!
Вот зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало… покажи мне лицо твоё, дай мне услышать голос твой…» [4]
Откуда взялись у меня эти слова?!
– Боже мой… – снова выдохнула Магдалин, не отводя в сторону расширенных отливающих тёмным золотом зрачков. – Никто никогда не говорил мне такого…
И спрятала в ладони запылавшее лицо.
– Прошу, ничего не отвечай сейчас, – попросил я. – Дай мне время. Мне надо идти, но я вернусь. У нас впереди – вечность.
Я не шёл – бежал по запутанным улочкам, подчинившись невидимому компасу, который обнаружился внутри. Так птицы безошибочно определяют север и юг, находят свою стаю случайно отбившиеся звери. Я больше не думал ни о самолётах и телевизорах, ни о митинских высотках и пылившейся под «ракушкой» «девятке», ни о пронзительных и суматошных ритмах конца второго тысячелетия – всё это было столь далёким, что казалось странным сном. Я думал о белых лилиях, женщине, чьё имя было музыкой печали и нежности, о друзьях, которых нашёл, когда не ждал, и теперь не хотел терять. Я шёл к своей команде-семье, угадывая направление, и боялся ошибиться или опоздать.
Комната оказалась узкой и длинной, без окон, с давяще-низким потолком, с чадящими факелами на стенах, длинным столом посредине. Когда я вошёл, трапеза была в разгаре, мой приход был встречен оживлением, а Фаддей, стрельнув намётанным глазом, поинтересовался как бы невзначай, где я был. Я с достоинством промолчал, усаживаясь на уголок.
– Ну вот, – сказал Равви, повертев глиняный кубок, – все в сборе. И я хочу сказать вам, что настал момент истины. Я научил вас всему, что было открыто мне. Различать тьму и свет. Думать. Творить. Любить. Прощать. Настаёт ваш черёд. Вы более не ученики, а товарищи мои. Дальше каждый пойдёт своим путём… Мир отдаю вам, весь этот мир – огромный, прекрасный и… жестокий. На всех в нём хватит дел. Любите его, постарайтесь сделать его лучше, чище, добрее… – Он прерывисто вздохнул, улыбнулся, но глаза оставались серьёзными, печальными.
Все притихли. Шутить больше никому не хотелось, смеяться тоже. В душном воздухе разлилась щемящая грусть перед скорой разлукой.
– Вот, я и посылаю вас, как овец среди волков, – продолжил он с невесёлой улыбкой. – Будьте мудры, как змеи и просты, как голуби. И когда станете говорить, не думайте, как и что сказать, всё получится само. Труден будет ваш путь…
Он запнулся. Дрогнули пальцы. Он взял хлеб, как показалось мне, чтобы скрыть эту невольную дрожь. Разломал на несколько неровных частей, протянул нам.
– Почему вы ничего не едите, не пьёте? Пейте…
Поднял кувшин и принялся разливать по бокалам вино, но кувшин оказался полным, и оно расплескалось через края, растеклось по столу уродливым бордовым пятном… Крошки хлеба упали в него, как лепестки умирающих цветов…
Забытая боль вдруг снова пронзила меня от волос до кончиков ногтей, и я замер, не в силах ни пошевелиться, чтобы её отогнать, ни отвести глаз.
– Это кровь моя… – Услышал я голос Равви, исполненный неестественной вымученной иронии, за которой он тщетно пытался скрыть боль отчаяния. – Кровь, проливаемая за человечество…
«Не надо!» – хотел я закричать, но мой голос пропал, язык онемел. Как рыба, выброшенная на берег, я открывал рот, но не издавал ни звука, лишь глотал гнетущую звенящую тишину.
Я вдруг ощутил, что не могу этого выносить. Физически не могу. До дурноты, до обморока. Я вскочил, едва не свернув стол, выбрался на улицу. В нос ударил омерзительно-сладкий запах роз. Липкая слабость овладела всем моим существом. Я привалился к стене, сполз по ней на землю, закрыл глаза. Подошёл хозяин, спросил, что со мной, и может ли он что-нибудь сделать. Я покачал головой. Он мне не нравился: льстивый голос, фальшивая улыбка, бегающие глазки. Почему мы выбрали этот дом, когда могли остановиться в десятке других? Налетевший ветер с гор принёс прохладу, разогнал цветочные запахи. Стало легче. Хорошо, что я не стал пить. Я вернулся в дом. Там шёл какой-то базар. Все говорили на повышенных тонах – сбивчиво, сумбурно, тыча пальцами друг на друга.
Следом сунулся хозяин, проговорил елейно:
– Простите великодушно, можно этого юношу на минуточку? – и ткнул крючковатым пальцем в сторону Симона. Тот сжался, испуганно захлопал глазами, огляделся по сторонам, словно ища поддержки, но все были заняты перепалкой, смысла которой я не успел уловить.
– Зачем он тебе? – встрял я.
– К нему земляк, с известием из дома. – И снова заулыбался медоточиво, тошнотворно.
Тьфу.
– Вы уверены, что вам нужен именно я? – пролепетал малыш Симон, поднимаясь, как на эшафот.
– Иди. – Неожиданно жёстко выговорил Равви. – Что должен делать, делай быстрее.
Тот вышел на подламывающихся ногах.
Возможно, на всё в мире существуют нужные слова, но я растерял и те последние, что знал. Я бросился за Симоном, но его уже нигде не было. Неужели его забрали, приняв за Равви? Разберутся – отпустят. Или нет? Одним больше – одним меньше. Нет человека – нет проблемы… Тоже ведь истина.
Мне сделалось не только тошно, но и жутко.
Снова ввалился в дом. Наверно, вид у меня был дикий, потому что Пётр спросил, что случилось.
– Сматываемся отсюда, – выпалил я. – Куда угодно. Быстро. И без вопросов.
Мы перебрались через какой-то ручей, продрались сквозь кустарник, перелезли за забор, миновали сад, удушавший розовый крематорий. Было что-то гнетущее, неестественное в этом гигантском цветнике, буйной пышности посреди пустыни. Как в пиршестве во время чумы. У меня что-то спрашивали, но я молчал. Впервые мне не хотелось разговаривать. Мой словарный запас безнадёжно иссяк. Равви тоже отмалчивался, словно мы с ним в молчанку играли. Постепенно затихли и остальные.