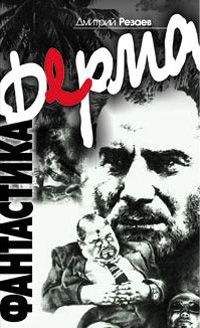Мария Артемьева - Ферма
Но это я сейчас понимаю, что глупости нес. А тогда… Тогда Очкарик со мной чуть не разругался. За то, что я Принцем этим горжусь. Да, так он сказал.
— Что ты, — говорит, — своим Принцем гордишься? Как будто он такой герой, и нас всех тут сейчас с фермы на свободу выведет! Или нет — даже не на свободу. Адомой. К настоящим родным, к папам, мамам, бабушкам и тетушкам. В семью. Ага?!
— А что? Может и выведет!
Дурак я тогда был. Хуже тебя сейчас. Но уж больно я в этого Принца поверил. Что он со всеми этими гадами справится. Всех победит. И все такое. Да-а-а.
Очкарик передо мной бледный сидит, пальцы свои терзает. У него привычка такая дурацкая была — кожу на лапах себе крутить, когда волнуется. Сидит и щиплет сам себя до синяков.
— Ты про Ханну-то зачем ему рассказал? — говорит.
— А что? — спрашиваю.
— Как — что? Ты понимаешь, этот кретин уже потребовал, чтоб ему Ханну предъявили. Назвался он им каким-то там «добровольцем-инспектором по заступничеству за детей-сирот» и канифолит Хозяйке мозги, что, мол, должен он своими глазами увидеть, как тут девочке живется. Жалобы у нее принять, если имеются.
Я прям захихикал, клянусь! Ничего себе, думаю, у Принца разноцветного фантазия. Почище, чем у Хромого или Очкарика. Надо ж какую штуку завернул. А что, может быть, и сработает? Но Очкарик смотрит на меня и головой качает.
И тут до меня допирает. Все бы хорошо, но Ханна! Действительно, зачем я ему про Ханну рассказал? И про Жирдяя-на-Джипе, помнится, тоже. Зачем?!
— Я так понимаю, про то, что Ханнины косточки давно под свинарником зарыты, про это ты ему забыл упомянуть?
Голос у Очкарика ядовитый — ни дать, ни взять, кобра. Такая, которая ядом плюется.
Я чуть не завыл в голос. И ведь действительно так: забыл! Ну, правда. Как из головы вылетело. Я ведь с головой-то своей давно не в ладах. И болит она у меня, и многое забываю.
А Ханна… Я про нее часто как про живую думаю. Даже и до сих пор. Уж очень противно мне тот день вспоминать, когда к ней в последний раз Жирдяй приезжал. Хозяйка послала меня с Очкариком ее искать, и мы искали. Долго искали. Жирдяй уже злиться начал. Все бегал, хлопал дверями своего джипа. Какие-то фотоаппараты туда-сюда таскал. А мы всё Ханну искали. По-настоящему.
Но нашел ее Косорыл. Он всегда знал, где она прячется. Оказалось, на сеновале она. На балке висит, и ноги босые всего-то в паре сантиметров от земли болтаются. Как будто Ханна на цыпочки хотела встать, подпрыгнула, взлетела вверх, а назад на землю не вернулась.
Это в первое, самое первое мгновение мне так показалось. Потом — нет. Потом я ее лицо увидел. Опухшее, не Ханнино совсем лицо. Язык синий, набок свесился. Под ногами лужа. И веревка на балке раскачивается и скрипит, скрипит. Страх, в общем, и гадость.
Достал ее Кракен. Ханна, она слишком хорошая была. И уже почти большая. Душу ее Кракен забрать не сумел, а убить — сумел. Теперь-то я это знаю. А тогда… Чего только ни думал, аж голова у меня трещала по ночам. Нет, не хотел я про это помнить.
Вот потому и Принцу забыл рассказать. А он теперь из-за меня в ловушку угодил. Потому что если Хозяин вдруг заподозрит, что Принцу нашему по-настоящему что-то известно про здешние дела — они с Михеем точно его порешат и свиньям скормят. Хоть он и чемпион по плаванию десять раз.
Мне от этой мысли прям дурно стало.
— Иди, — говорю, — Очкарик! Иди скорей. Подслушай еще, о чем они там говорят. И если что — беги сюда. Я сейчас встану, всех соберу. Обскажу им про все, разъясню. Не хочу я, чтоб Принца убили. Может, если мы все туда придем и скажем, что нельзя Принца убивать…
— Да куда тебе вставать! — Очкарик говорит, а сам чуть не ревет. — С ума ты сошел. О себе подумай. У тебя ж спина вон вся в крови. А ты о Принце думаешь!
— Миленький, — говорю, — Очкарик. Ты за меня не заморачивайся. Я твердый орешек. Меня разные папы-мамы били, и мамы-мамы травили — ничего со мной не будет. Ты иди, тихонечко подберись, послушай, что там делается… Главное — вовремя свистни на подмогу. А я сейчас… Давай, двигай!
Очкарик только глянул на меня — понял, что я не отступлю. И убежал.
А я потихоньку поднялся — кровь, зараза, запеклась, и рубашка к спине присохла. Надо снять, а не могу — больно, будто кожу с меня живьем тянут. Я вдруг вспомнил, как, бывало, ящериц, сереньких таких, юрких, как змейки, в поле ловил, а они, если неправильно их схватишь, хвосты отбрасывали. Впервые подумалось: больно же им, наверное, когда приходится вот так собственный хвост от себя отдирать да бросать. Раньше мне это в голову не приходило. А тут я этих ящериц крепко пожалел. Когда начал сам, как та ящерица, выползать из присохшей рубахи, будто из собственной кожи выдираться… Ужасно больно было. Но иначе-то нельзя. Потом, когда отодрал, полегче все же стало.
Вышел я из барака взглянуть, где там наши все. Косорыл у ворот сидит, башкой во все стороны вертит. Меня увидел — расплылся в улыбочке. Я ему помахал, он сразу прибежал, мычит чего-то.
Я ему велел, чтоб он мне бумагу и карандаш притащил. Я знаю, у него есть. От Ханны остались. Косорыл хранил ее альбом и два карандаша в каком-то своем тайнике.
Он удивился сперва, но потом увидел, что я нисколько не шучу, что мне очень надо, и послушался.
Вынул один листочек из альбома и карандаш принес. Я написал записку ребятам, что жду всех срочно в нашем бараке. Чтоб были все, как штык, обязательно. Написал, что это мой им предсмертный завет. Очень я серьезно настроен был тогда.
С этой запиской я послал Косорыла. Чтоб он всем ее показал и собрал всех. А сам сел ждать Очкарика у входа в барак. Отсюда мне видны были еще собачьи вольеры во дворе. Боялся я, что, если чего, Михея Хозяин пошлет за своими зверюгами — на Принца натравить. Надо этот момент не упустить, не прошляпить.
Сидел я, волновался ужасно. Так переживал — даже о жратве забыл, хотя с прошлого вечера не жрамши. Все на солнышко пялился. Небо серое, как свинцовая плита, а солнышко все-таки через эту хмарь пробивается — винтится теплыми лучиками в серую стенку. Будто лампочка сквозь грязную занавеску просвечивает.
Думал я об этом упрямом солнышке, мечтал… И так высоко мои мысли забирались — как стрижи в поле — под небеса. В таком я был необычном помрачении тогда. Дурак, что взять.
И вдруг вижу: въезжает, громыхая на повороте, во двор машина. Яркая, спортивная, хотя и не новая, но красивая. Капот какими-то драконами разрисован. Ни разу эту машину я на ферме не видел.
Вылезает из машины хлыщ в рабочем комбинезоне, дверцей хлопает и машет рукой в сторону кухни. А из дома выходят навстречу хлыщу Хозяин с Хозяйкой, Михей-идиот и… кто бы ты думал? Принц. Собственной персоной. Причем все улыбаются друг другу, как родные. И разговаривают с такими дружелюбными мордами — ни дать, ни взять — лучшие приятели.