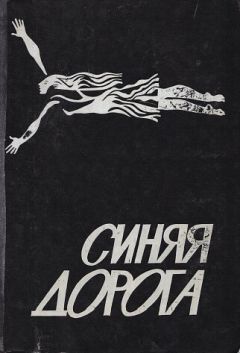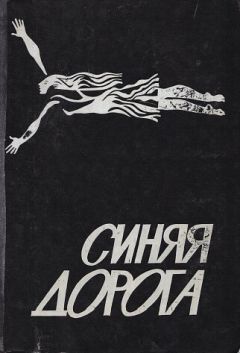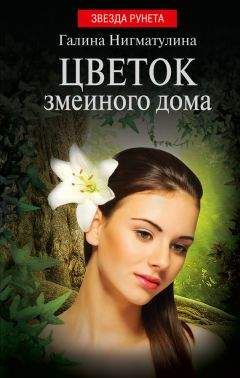Галина Вайпер - Синяя звезда
Дедушка, открывая дверь, с чувством сплюнув с крыльца в кусты, завершил тираду глубокомысленным соображением:
– Бардак – это тебе не Три Короля.
Расмус присел на ступеньку, протянул мне руку. Я пристроилась рядом, опираясь ладонями в теплое дерево крыльца, прислушиваясь к происходящему за дверями. Грохот внутри свидетельствовал о темпах наведения порядка. Наконец дед высунул голову в дверь с криком:
– Эй, вы, заходите! Уже можно!
В доме все сияло чистотой. Стоящий в здоровом горшке на подоконнике единственного окна раскидистый куст на глазах покрывался распускающимися цветами.
– Это для тебя, – дед почти улыбнулся, поглядывая на меня из своих морщин пронзительно острыми глазками.
Светлые стены огромной комнаты были увешаны картинами. На самой большой и, похоже, самой старой, во мраке потемневших красок угадывалось мужское лицо с острым носом. Ближе к окну громоздился круглый стол, накрытый белоснежной скатертью. Вокруг стояли деревянные стулья с высокими резными спинками. Мы расселись за столом.
– Ну что, кто чай готовить будет, – обратился к Расмусу дед, – ты или я?
– Давай по очереди, – предложил Расмус, – а Холли будет судьей.
– Мы с ним вечно препираемся, кто из нас вкуснее чай готовит, – мелко хихикнул дед Гроун.
– Кто первый? – Расмус встряхнулся, как лошадь на старте.
– Давай уж я, на правах хозяина, – ехидно усмехнулся старик, – хоть здесь ты не будешь спорить?
– Не буду, – согласился Расмус, украдкой глянув на меня.
Что-то я не заметила, чтобы он особенно препирался со старым хреном, с ним попробуй поспорь, впрочем, это их дела.
– Вот и хорошо, – дедуля потер руки, и на столе неторопливо стали появляться чашки и прочие чайные причиндалы. – Люблю, когда не выступаешь. А ты, Холли, как его терпишь?
– Да он вроде ничего… – вступилась я за Расмуса, не очень, правда, уверенно.
– Неужто не вредничает? – дед, кажется, знал своего ученика достаточно хорошо.
– Да нет, – пожала я плечами, не жаловаться же ему, я и сама могу за себя постоять.
– Ох, смотри, Холли, поосторожней с ним, – дед Гроун, качая с сомнением головой, протараторил неумолимой скороговоркой, – а то однажды отмочит чего-нибудь такое-этакое, наплачешься тогда. Характер у него поганый в общем, надо честно признать.
– Мне как бы и деться некуда, – неожиданно для самой себя пожаловалась я все-таки деду.
– Взгреть бы тебя, – пожелал дед Расмусу.
Тот опустил глаза, скромник, надо же. Изобразив искреннее раскаяние, он поднял глаза на стену, внимательно уставившись на потемневший портрет. Что это его так привлекло? Мне показалось, что портрет шевельнулся. Не может быть, устало подумала я. Почему не может, возразил настырный рассудок, почему это не может? Во сне может. Не выспалась я, что ли? Фиг с ним со всем, пусть вокруг меня шевелится все, что угодно, теперь что, я и во сне буду спать без остановки? Это уже что-то новенькое…
Чашка, стоявшая перед моим носом, начала наполняться чаем снизу, с самого дна, как будто в ней открылся родник. Пар вознес к моему носу запах жасмина. Как здорово!
– Что? – старик обрадовался, как младенец. – Угадал?
Я благодарно покивала. Угадал, и мне было приятно. Дед расцвел, гордо задрал подбородок.
– Учись, дурень, пока есть у кого! Ну как, вкусно?
– Очень, – с удовольствием призналась я.
– Лучше, чем у него? – дед кивнул головой на Расмуса.
Мне стало неловко. Не хотелось обижать Расмуса, но чай дед готовил потрясный. Расмус отвел глаза от портрета, на который он так и пялился в продолжение нашей беседы со старым колдуном, весело усмехнулся:
– Да ладно, Холли, не расстроишь ты меня, не стесняйся. Гроун чего-чего, а чай готовит роскошный. Сейчас моя очередь? А?
– Давай, давай, – гордо ответствовал дед, – посмотрим, кто кого!
Прежние чашки исчезли со стола. На их месте появились новые, впрочем, хорошо знакомые мне чашки в форме тюльпана, с синим узором. Над ними привычно воздвигнулся чайник, аккуратно, стараясь не брызгать, заполнил их чаем. Я попробовала, и у меня закружилась голова. Это был не чай, а что-то совсем другое. Голова поплыла, сердце зашлось, я откинулась на спинку. Сквозь неодолимо поглощающий меня сон я почувствовала, как Расмус взял меня за руку, только и успев услышать голос старого колдуна:
– Драть тебя некому, дурень!
Совсем угасая, тихим эхом отозвался голос Расмуса:
– Шшш… Мне нужно поговорить с ним, очень… Помоги мне…
* * *Меня разбудила музыка… Вернее, нет, не разбудила. Сначала послышалась тихая звенящая мелодия, еще во сне, и только потом она ласково вывернула сонное сознание наизнанку, осторожно переводя его в бодрствующее состояние. Я лежала, чувствуя на лице легкие попытки прохладного ветра забраться дальше и глубже торчащего наружу носа, но не боялась его, чувствуя себя под льющейся защитой не стесненных никакими преградами звуковых волн.
Глуховатый деревянный голос флейты вызывал перед закрытыми веками картину плавно колеблющейся стены шуршащих стеблей тростника. Раздирающий душу рыдающий хрип саксофона звал и звал, надрываясь, захлебываясь плачем, куда-то далеко-далеко, где не было ни стен, ни крыш, ни земли, ни неба, ничего, совсем ничего, кроме одного несбыточного счастья.
Там, внутри меня, в полной черноте, возникало ощущение безбрежности, безграничности пространства вокруг, наполненного только самим собой, голым, пустым пространством. Вдруг в темноте внутреннего зрения передо мной, стоящей внутри меня, под ногами внутреннего представления собственного тела, появились тонущие в темноте широкие ступени, ведущие вниз.
На черных стенах по сторонам лестницы, если это были именно стены, а не что-то иное, появились световые пятна, сливающиеся в линии, светящиеся, зеленые и красные, образующие танцующие плоские арабески. Линии размазывались в замедленном движении, оставляя за собой потеки, следы, капли цвета. Каждый шаг вниз заставлял звучать ступени под ногами басовыми звуками рояля, которые, дребезжа, вынуждая содрогаться воздух, поднимались вверх, чтобы обрушиться вниз, прямо на меня.
Далеко-далеко, глубоко внизу слабо загорелась нежно-голубая искра. С каждым шагом она становилась все больше, и, разрастаясь, начинала напоминать мне…
– Оля… – я ощутила ровное легкое дыхание, еле уловимое прикосновение губ к виску. – Оль…
Я не хотела открывать глаза – столько чувства было в этом еле слышном дуновении моего имени. Я не хотела открывать глаза, потому что, открыв, придется жить в соответствии с другими, не всегда, и даже чаще всего не моими правилами. За опущенными веками, в запертом внутри сердце поднялась теплая волна, захлестнувшая меня с головой, волна ощущения блаженства существования. Мгновение звучащего чувства во внутренней безграничной темноте обернулось беспредельностью полноты мгновения жизни.