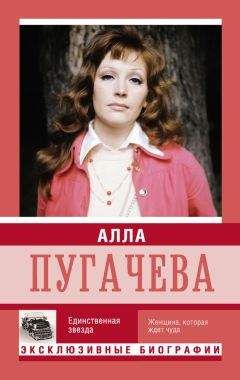Олег Лукошин - Наше счастье украли цыгане
Мне нравятся фильмы с танцами. Индийские, да. Но не только.
Когда танцевальный номер включён в сюжет естественным образом — это одно. Например, приходят герои на танцплощадку и пляшут. Как в «Начале» с Инной Чуриковой и Леонидом Куравлёвым. Под «Цыганочку», которая на самом деле переделка с какой-то западной композиции. Фильм довольно мутный, но сцена эта врезается в память. В ней драйв, придурь своеобразная — а всё ведь только на придури и держится. И в искусстве, и в жизни. Чем она изящнее — тем больше впечатляет.
Но совсем другое дело, когда идёт себе кино, идёт, разговаривают персонажи, сражаются на шпагах или целуются — а потом вдруг откуда ни возьмись танец. Иногда с песней. Но лучше просто танец, потому что с песней — это в чистом виде индийский вариант, а значит что-то из области чрезвычайно доступного. Я ценю её, но верю в существование более сложных конструкций.
Отчего-то вспоминается фильм братьев Тавиани «Вперёд, сыны Отечества!» Серёга Костылев, киноэстет, купил его на видеокассете втридорога, потому как шедевр мирового кинематографа, народ собрал у нас дома театрально-интеллектуальный, и под винцо состоялся просмотр с обсуждением. Помнится, даже мне в бокал плеснули пять граммов, мать не возражала. Фильм жутко всех разочаровал, особенно самого Костылева, который клятвенно обещался засунуть этот сраный шедевр видеобарыге в задницу. Товарищи его поддержали. Вот уж не помню, выполнил ли он обещание. Думаю, нет, он по жизни трепло. Я оказалась единственной, кого кинопроизведение впечатлило. И в первую очередь за танцевальные движения, которые совершали главные герои, итальянские революционеры. Придурь отменная, изящная. Идёт себе фильм, развивается, потом они вдруг встают в ряд и под выразительную музыкальную тему совершают странные па. Это вроде бы и марш, но одновременно и танец. Никаких ему объяснений, никаких подводок, но придуман он замечательно — сразу погружаешься в авторский замысел. Он достраивается в сознании не просто на уровне сюжета, а с какими-то проекциями в область бессознательного. Как можно не понять такой яркий образ? Костылев, ты придурок вместе со своими дружками, ты ничего не понимаешь в искусстве! Иди работать на завод.
Всю сознательную жизнь меня преследует фобия. Камеры. Кинокамеры. Они вокруг, они порхают где-то в воздухе, они спрятаны в кустах и в траве, и даже в стенах для них просверлены специальные ниши. И все они снимают меня. Двадцать четыре часа в сутки. Шестьдесят секунд в минуту. Никуда от них не скрыться. Невидимый режиссёр ежедневно просматривает отснятый материал, недовольно плюётся и произносит крепкие выражения, коря меня за бездарную игру. Из километров плёнки, снятых за день, он оставляет небольшой фрагмент, а иной день и вовсе не удостаивается сохранённого эпизода. Из этих нарезок невидимый режиссёр монтирует фильм моей жизни. Оба мы желаем, чтобы фильм получился выдающимся, но чаще всего полагаем, что выходит откровенное дерьмо.
Каждый день я горько упрекаю себя за неестественность, за то, что недоиграла или наоборот — переиграла. Почти всегда я недовольна собой. Робкое удовлетворение проскальзывает лишь тогда, когда из меня вылезает качественная придурь. Потому что она изящна. Потому что она акт искусства.
ЗА ПОКАЯНИЕМ
— Здравствуйте, люди добрые! — женщина в чёрном переступила порог избы и тщетно принялась искать по углам образа, но дед этого добра дома не держал, потому ей пришлось креститься просто так, на воздух.
За ней вошла Катя Елизарова. В чёрном она не была, но и по обыкновению яркое, столь шедшее к лицу этой броской и красивой девушке, тоже не значилось на ней. Этакое серо-коричневое платьишко, туфлишки примерно такого же цвета.
Я поняла, что женщина в трауре — её мать, жена председателя. Её мне лицезреть ещё не приходилось.
Женщина казалась спокойной и даже просветлённой. Впрочем, было в этом просветлении нечто вызывающее. А вот Катя напротив — предстала в совершенно жалком состоянии: скрюченная вся какая-то, поникшая, серая, вроде бы заплаканная. На грани нервного истощения. Дед, который последние события воспринял чрезвычайно тяжело и лежал, не вставая, в обнимку с таблетками от сердца, глухо простонал, побледнел и покрылся испариной, когда увидел у себя в доме этих двух пришедших терзать его душу женщин. В том, что именно так он подумал, я не сомневалась, потому что точно так же подумала и я. Да и для чего вообще Елизаровой ходить после гибели мужа по избам односельчан, как не для терзаний и горестных упрёков?
— Мам, ну пойдём домой! — тут же принялась канючить Катя.
Делала она это негромко и устало, видимо наша изба в маршруте вдовы значилась далеко не первой.
Та же, накрестившись вдоволь, сложила ручки благостно на животе, улыбнулась уголками губ — печально и всепрощающе — и одарила меня с дедом пронзительно-укоряющим взглядом. Судя по всему, мы входили в список лиц, которые подлежали особо изощрённой психологической расправе. В первую очередь я. Но обратилась Елизарова, разумеется, не ко мне — кто я вообще такая, мной можно и пренебречь, имея, однако, в постоянном виду — а к лежащему на кровати и буквально вжавшемуся в матрас деду.
— Доброго здоровьица, Никита Владимирович! — произвела безутешная вдова глубокий и многозначительный поклон. — Зашла вот к вам о Сашеньке напомнить. Всё ж не чужим человеком он вам был, председательствовал честно и ответственно, много добра людям сделал. Что ж теперь поделаешь, если не мил оказался? Если возненавидели его и жизни лишили? На всё воля Господа. Не забывайте о нём, Христа ради, помяните иной разок. И о Володеньке, сыночке, не забывайте. И у него злые люди жизнь отняли, не ими данную. Одни мы с дочкой остались, если что с ней случится — не знаю, как жить дальше.
На последней фразе голос Елизаровой дрогнул, она надрывно вздохнула и в мгновение ока расплакалась. Тут же в руках её возник такой же чёрный, как одеяние платок — я оценила этот целостный выдержанный стиль — и женщина погрузила в него замельтешившее мелкой дрожью лицо.
— Мам, ну хватит тебе унижаться! — снова, уже резче, пристыдила её Катя. — Что ты им всем доказываешь? Ничего ты от них не добьёшься, никому до нас дела нет. Они за свои шкуры трясутся. Всем на нас наплевать. Пойдём, давай, пойдём! Хватит смешить неблагодарный народ.
— Мужа вашего, Таисия Ильинична, — торжественно, печально и чрезвычайно тупо, ибо звучало это как нелепая реплика в самодеятельном спектакле самого дерьмового сельского театра, молвил вдруг дед, — и сына вашего мы помним и чтим. Не передать словами, как сочувствуем мы горю вашему. Ума не приложу, как такое в наше время возможно.