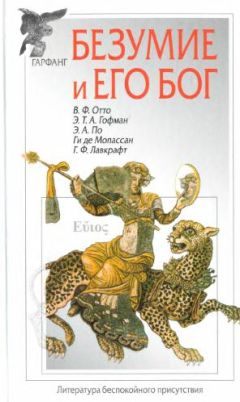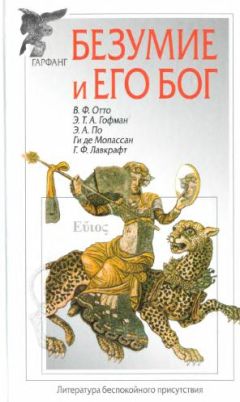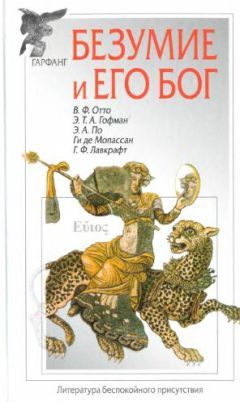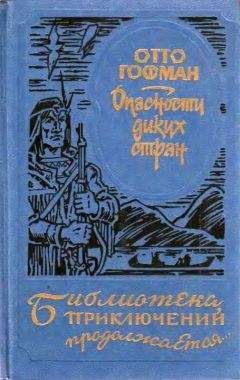Вальтер Отто - Безумие и его бог (сборник)
«Света до сих пор нет — наверное, уже минут пять. Теперь все зависит от молний. О, Яддит, дай им свободную волю!.. Похоже, начинаю чувствовать какое-то пробивающееся сквозь непогоду воздействие… Гром, ветер и дождь заглушают его… Оно начинает овладевать моим мозгом…
Что-то случилось с памятью. Вижу вещи, которых никогда не знал: другие миры, другие галактики… Тьма… Молнии кажутся черными, а тьма — светом…
Церковь и холм, которые я вижу в кромешной тьме, наверняка нереальны. Вероятно, образ, запечатлевшийся на сетчатке глаза при вспышке молнии. О, Небо! Если молнии перестанут сверкать, пусть там окажутся итальянцы со своими свечами!..
Чего, собственно, я боюсь? Разве это не аватар Ниарлатотепа, в призрачном древнем Кемте являвшегося даже в человеческом облике? Я помню и Юггот, и еще более далекий Шэггай, и черные планеты в первозданной пустоте…
Долгий крылатый полет через пустоту… вселенную света не пересечь… возрожденный мыслями, пойманными „Сияющим трапецоэдром“… он послан через полные ужаса бездны света…
Меня зовут Роберт — Роберт Харрисон Блейк, Ист-Кнэп-стрит, 620, Милуоки, Висконсин… Нахожусь на этой планете…
Смилуйся, Азатот, молнии прекратились!.. Ужасно: прекрасно все вижу, но это не зрение, а какое-то другое, чудовищное восприятие… свет — это тьма, тьма — это свет… люди на холме… охраняют… свечи и амулеты… их священники…
Больше не чувствую расстояния: далекое — близко, близкое — далеко… Без света, без бинокля… вижу шпиль… башню… окно… слышу… Родерик Эшер… не схожу ли я с ума, или, быть может, уже сошел?., существо в башне шевелится, ворочается. Оно — это я, я — это оно: хочу выбраться отсюда… обязательно надо выбраться и объединить силы… Оно знает, где я…
Я — Роберт Блейк, но вижу башню в темноте. Кошмарный запах… органы чувств видоизменяются… вперед в башенное окно— жалюзи падают — путь свободен… Ййе… нгэй… югг…
Вижу его… летит сюда… адский ветер… титаническая синева… черные крылья… Ог-Сотот, спаси!.. трехдольный горящий глаз…»
Музыка Эриха Цанна
Я проштудировал множество карт города не только современных, но и устаревших, поскольку названия, разумеется, изменялись, — однако «Осейль» так и не нашел. Более того, я досконально обследовал старинные кварталы и, не обращая внимания на названия, вдоль и поперек исходил все районы, где могла бы находиться улица, запомнившаяся мне как Осейль. Но тщетно! Все усилия не привели ни к чему, и пришлось констатировать унизительный для меня факт: ни дома, ни улицы, ни даже района, где, будучи студентом факультета метафизики, я влачил последние месяцы того памятного нищенского существования и где мне довелось услышать музыку Эриха Цанна, я не могу отыскать.
Провалы в памяти отнюдь не удивительны: жизнь на улице Осейль весьма и весьма сказалась на моем физическом и психическом здоровье. И все-таки странно, совершенно не понимаю, почему не могу отыскать эту улицу, — ведь до нее всего полчаса ходьбы от университета, да и дорога настолько примечательна, что, пройдя по ней хотя бы раз, ее едва ли можно забыть. Спросить решительно не у кого: ни один из немногих знакомых тех времен не заходил ко мне на Осейль, и я еще не встречал никого, кто что-либо слышал о ней.
Улица Осейль находилась за массивным каменным мостом через мутную, грязную реку, по обоим берегам которой шли отвесные кирпичные стены каких-то складов с непрозрачными рифлеными окнами. У реки всегда было сумрачно: дым близлежащих фабрик, казалось, никогда не пропускал сюда солнца. Кроме того, река источала отвратительные запахи — настолько специфические, не похожие ни на какие другие, что, возможно, они когда-нибудь помогут в моих поисках: я, безусловно, их сразу узнаю. На той стороне тянулось несколько узких, мощенных булыжником улиц с трамвайными путями, затем начинался подъем: сначала плавный, но на подходе к Осейль очень крутой.
Сама же Осейль отличалась невероятной узостью и крутизной. Недоступная, разумеется, ни для какого вида транспорта, местами переходя в пролеты ступеней, она поднималась чуть ли не вертикально и заканчивалась тупиком — увитой плющом высокой стеной. Вымощена улица была весьма хаотично: то каменными плитами, то булыжником, а иногда попадались участки голой земли с пробивающейся серовато-зеленой травой. Высокие, немыслимо старые дома с островерхими крышами неправдоподобно кренились вправо, влево, вперед и назад. Кое-где, наклоняясь навстречу друг другу, дома почти смыкались, образуя над улицей некое подобие арки; они-то в основном и загораживали свет. Кроме того, над улицей нависало несколько переходов, связывающих противоположные дома.
Странное, очень странное впечатление производили и обитатели улицы Осейль. Сначала я подумал, что причиной тому их молчаливость и скрытность, но позже нашел другое объяснение: все они были совсем-совсем старыми. Не понимаю, как меня угораздило поселиться на подобной улице, но в то время я был настолько стеснен и измотан, что не задумывался над такими вещами, — меня постоянно выселяли за неуплату, и я переезжал из одной убогой квартиры в другую, пока наконец не попал в ветхий, разваливающийся дом на Осейль, принадлежащий Бландо, разбитому параличом старику. Третий дом, считая сверху, самый высокий на улице.
Дом пустовал, и на пятом этаже, где находилась моя комната, я был единственным постояльцем. Переселившись, первой же ночью я услышал необычную музыку, доносившуюся из мансарды под островерхой крышей. Расспросив на другой день Бландо, я выяснил, что там жил немец, музыкант, странный немой старик по имени Эрих Цанн, вечерами игравший на виоле в оркестре захудалого театрика. По словам Бландо, ночью, возвратившись из театра, Цанн любил поиграть для себя и поэтому поселился под самой крышей, в уединенной мансарде с единственным слуховым окном, из которого, однако — и только из него на всей улице, — можно было взглянуть поверх тупиковой глухой стены на крутой склон и панораму внизу.
Впоследствии я слушал Цанна каждую ночь, и хотя его концерты мешали мне спать, причудливость музыки определенно завораживала. Не особенно разбираясь в этом искусстве, я тем не менее был уверен, что гармонии Цанна существенно отличаются от всех мне известных, и потому стал относиться к старику как к талантливому и весьма оригинальному композитору. Чем больше я слушал, тем больше проникался его игрой, пока наконец — приблизительно через неделю — не решил познакомиться с ним.
Однажды поздно вечером я подкараулил возвращавшегося с работы Цанна и, как бы невзначай столкнувшись с ним в коридоре, сказал, что хочу познакомиться и, если возможно, послушать что-нибудь в его исполнении. Теперь я видел его вблизи: невысокий, худой, сгорбленный, в потрепанной одежде, голубоглазый и почти лысый, он напоминал сатира гротескными чертами лица. Первые же мои слова разгневали его и напугали, однако явная доброжелательность в конце концов все-таки смягчила старика — жестом предложив следовать за ним, он повернулся и начал подниматься в мансарду по темной, расшатанной и скрипящей лестнице. Из двух комнат под крутой крышей Цанн занимал западную, выходящую на высокую стену в конце улицы. Просторная комната из-за немыслимой бедности и запущенности казалась еще просторней. Вся обстановка состояла из узкой железной кровати, обшарпанного умывальника, маленького стола, объемистого книжного шкафа, железного пюпитра и трех старомодных стульев. Разбросанные по полу нотные листы, грубые дощатые стены, которые, похоже, никогда не штукатурили, изобилие пыли и паутины создавали впечатление, что помещение скорее заброшенно, чем обитаемо. Словом, судя по всему, мир красоты и гармонии Эриха Цанна находился в каком-то другом, воображаемом космосе.