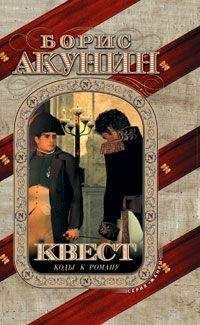Борис Акунин - Кладбищенские истории (без картинок)
— Нет, в двадцатые все спорили из-за законов по клонированию, чуть не переубивали друг друга. — Жена Очень Старого Писателя поправила перед зеркалом локоны, скосила глаза в левую половинку трюмо — не висит ли подбородок. Нет, ни капельки. Вот что значит хорошая клиника. — Ты помнишь этих оголтелых? Они тебя чуть не разорвали. Господи, как это было ужасно!
— Как это было чудесно, — вздохнул муж. — Подумать только — было время, когда люди враждовали из-за различий во взглядах. Но ты опять меня перебиваешь. Я ведь не про политику говорил, а про медицину. В двадцатые все вдруг возжаждали не религиозных, а научных сведений о посмертном существовании. Помнишь, сколько было статей, книг, фильмов!
— Да помню, помню. А потом уперлись в этот самый туннель, в сияющий за ним свет — и дальше ни шагу.
Регенерация регенерацией, но от старости никуда не денешься, подумалось ей. Всё время повторяем одно и то же, рассказываем друг другу вещи, отлично известные нам обоим. Он прав: всё уже было.
— Да, да, — возбужденно ходил по комнате Очень Старый Писатель. — Достоверность на этом закончилась, пошли одни гипотезы, так что пришлось отступиться. И у науки есть свои пределы. Но знаешь, что выявил профессор Синигами, изучая материалы двадцатых годов? Оказывается, во время синдзю душа поднималась по черному туннелю не одна. Вдвоем! Ты понимаешь — вдвоем! Историки утверждают, что средневековые японцы об этом знали. Потому-то и практиковали двойные самоубийства. Они верили, что при одновременной смерти двух очень близких людей, «слитых душ», те окажутся вместе и после перерождения. Вот в чем был смысл всех этих самоубийств в Сонэдзаки и на Острове Небесных Сетей, а вовсе не в бегстве от житейской безысходности! Ученые двадцатых годов не занимались двойными самоубийствами специально, их интересовал посмертный опыт вообще. Показаниям участников синдзю, где упоминался «совместный полет», они не придали значения, списали на галлюциногенные аберрации. А профессор Синигами выделил одни только синдзю, сопоставил данные, проанализировал. Опыт посмертного со-ощущения наблюдался в 37 процентах случаев!
Жена Очень Старого Писателя взяла лейку, стала поливать цветы, сделав вид, что его слова ее нисколько не впечатлили.
— Ну и зачем ты мне это рассказываешь? Какая разница, что там соощущали твои полоумные японцы?
Хотя сама знала, что разница есть. Совместный полет?
— И потом, что такое 37 процентов? — сухо сказала она. — Всего одна треть. А мы с тобой возьмем и не со-ощутимся, попадем в остальные две трети. Это ведь тебе не рулетка — поставил не на ту ячейку, и черт с ним!
Очень Старый Писатель заговорил вкрадчиво, бархатно:
— Да ты учти, в начале века влюбленные самоубийцы были людьми молодыми, максимум на седьмом десятке. Что это за возраст? И потом, страсть — это тебе не любовь. И уж тем более не сто два года совместной жизни. Мы с тобой давным-давно превратились в сиамских близнецов, нас никакой туннель не разделит… Ну ты же мне обещала, слово давала! На Новый Год, помнишь?
— Мало ли что я обещала, — отвернулась она, придирчиво разглядывая листочки традесканции — кажется, начали сохнуть. — Напоил старую женщину шампанским, замурлыкал в ухо. Да и не помню я, чтоб слово давала.
— Ну как же! Ты говорила: «Только дождемся, когда в саду расцветут ирисы, и тогда уже можно». Отцвели твои ирисы. Не очень-то ты им и обрадовалась. Сказала: «Развести вместо них, что ли, орхидеи?» А потом вспомнила, что орхидеи у тебя уже были, еще до эпохи кактусов. Всё уже было, девочка. Всё. Ей-богу, стыдно жить на свете, когда всё по десятому разу. А там, на той стороне, свет. Он нас заждался, я это чувствую, ах, как я это чувствую! Мы полетим туда вместе, и вдвоем нам не будет страшно.
— Но ведь наука так и не установила, что это за свет на той стороне туннеля. Вдруг там что-нибудь ужасное? — сказала Жена Очень Старого Писателя, начиная поддаваться, потому что всегда поддавалась, когда он говорил с ней этим голосом — так за сто два года ничему и не научилась, старая дура.
— Что может быть ужасного в лучезарном свете? Ты ведь помнишь, как очевидцы — люди, которые оттуда вернулись, — описывают восторг, охвативший всё их существо? Да и потом, — в выцветших глазах Очень Старого Писателя сверкнули искорки, чего она не видела уже много-много лет. — Ужасное — это так интересно! С тобой и со мной столько лет не происходило ничего ужасного! Представляешь, попадаем мы с тобой в сияющий чертог, а грозный глас как возопит: «Ага, голубчики, сейчас вы мне за всё ответите!»
Задребезжал своим кашляющим смехом — и всё испортил.
— Ну тебя с твоими дурацкими разговорами, — отрезала она. — Лучше бы щенков покормил. Расплодил живности, а теперь отлыниваешь.
И Очень Старый Писатель отправился на псарню — с явной неохотой. А ведь когда-то мог возиться с собаками по несколько часов кряду, не дозовешься. Сколько было радости, когда рождались новые щенки…
Она вышла на веранду с книжкой. Половина четвертого, еще только половина четвертого. Дни стали бесконечно длинными, потому что для сна ей теперь хватало трех часов, а дел в общем-то никаких, кроме тех необязательных, какие выдумаешь себе сама. Все дела давно сделаны, все цели достигнуты. Дети? Смешно сказать — «дети». Им перевалило за сто. Для нее когда-то это был тяжелейший психологический рубеж, но они из другого поколения, им все нипочем. Вот внуки — те больше похожи на нее и мужа. Не странно ли, что с внуками возишься куда больше, чем когда-то с собственными детьми? На правнуков заряда уже не хватает. Тем более на праправнуков. А уж что касается прапрапра… Тут Жена Очень Старого Писателя сбилась, запутавшись в приставках. Или «пра» — это не приставка? Ах, какая разница.
Открыла книгу, «Николаса Никльби». Наверное, в тысячный раз. Давным-давно не читала новой литературы, только перечитывала старую. Не для того, чтобы погрузиться в жизнь хорошо знакомых героев, а чтобы воскресить прежние ощущения. Но и это удовольствие приелось, иссякло, хотя книги теперь научились издавать совсем, как во времена детства: с коленкоровым корешком, а дисплей на вид и даже на ощупь совсем как бумажная страница.
Кап, кап!
Донесся звонкий, прозрачный звук.
Она рассеянно подняла голову. Под водосточной трубой стояла широкая медная ваза, в ней плавали лепестки. Однажды, уже не вспомнить сколько лет назад, она увидела такое в одном японском храме: садовники там не выметали опавшие лепестки сакуры, а собирали их и ссыпали в чаны, наполненные водой. У себя в саду она делала то же самое. Раньше — потому что это казалось красивым; в последние годы просто по привычке. Ну вода, ну в ней разноцветные лоскутки.