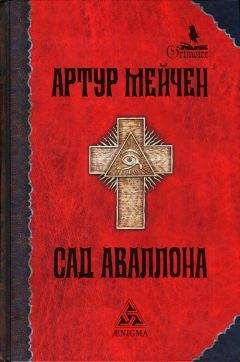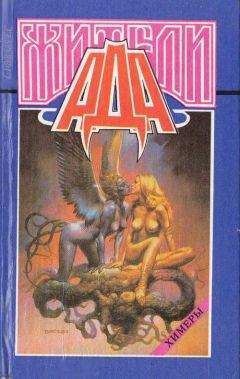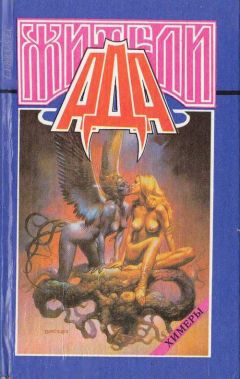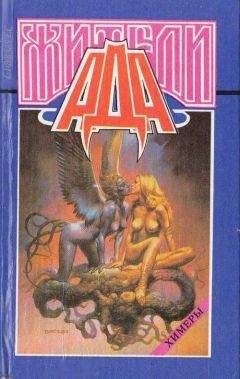Артур Мейчен - Холм грез
Гнавшее его в путь жало в тот день впилось глубже обычного. Луциан был измучен очередной неудачной попыткой вернуться к работе, и сама его жизнь казалась невыносимым страданием. Войдя в плотный туман, сгустившийся под тяжелыми облаками, он невольно начал жестикулировать, содрогаясь от стыда и боли. Впиваясь ногтями в ладонь, Луциан чувствовал какое-то болезненное облегчение. Он яростно взмахивал руками, пробиваясь вперед и спотыкаясь о промерзшие корни деревьев. «Какое омерзительное бессилие, какая бездарность!» — твердил Луциан, проклиная свою жизнь, выкрикивая ругательства и топая ногами. И тут он был потрясен раздавшимся совсем рядом с ним воплем ужаса. Он быстро огляделся и увидел в тумане женское лицо, искаженное гримасой страха. Руки женщины свела судорога, и на миг Луциану показалось, что этим уродливым жестом женщина подманивает его к себе, — но в следующий момент та повернулась и бросилась бежать, визжа, словно перепуганное животное. Луциан остался стоять на месте, прислушиваясь к замиравшим вдали женским воплям. Сердце его оледенело — он хорошо понимал, что сейчас произошло. Сам он не замечал своей неистовой жестикуляции, не замечал, как выкрикивал проклятия и скрежетал зубами. Он видел только побелевшее от ужаса лицо и слышал пронзительный вопль. Луциан знал, что женщина испугалась его. Он трясся и дрожал всем телом, ощупывая свое лицо в поисках омерзительной метки, клейма Зла, которое должно было гореть на его лбу. Шатаясь, словно пьяный, он побрел домой. Когда Луциан вышел на Акс-бридж-роуд, дети принялись дразнить его — он и в самом деле сильно покачивался на ходу и хватался за фонарные столбы. Придя домой, Луциан долго сидел в темноте, не решаясь зажечь свет. Он нечетко различал окружавшие его предметы, но, проходя мимо туалетного столика, на всякий случай зажмурился и уселся подальше в угол, отвернув лицо к стене. Наконец Луциан набрался мужества — газовое пламя, свистя, поднялось в светильнике — и поплелся к зеркалу, мучительно пряча лицо и пытаясь побороть свой ужас. В зеркале он увидел самого себя.
Изо всех сил Луциан пытался избавиться от своей чудовищной фантазии, убеждая себя, что его лицо ничем не отличается от множества других человеческих лиц — разве только печали в нем побольше. Но он никак не мог забыть свое отражение в глазах перепуганной женщины — в этом надежнейшем из всех зеркал царил лишь безумный ужас. Казалось, сама душа женщины забилась от страха при виде лица Луциана. Ее крики по-прежнему преследовали его, и он не мог отогнать от себя воспоминание о ее бегстве. Несомненно, встреча с ним была для нее страшнее смерти.
Вновь и вновь Луциан вглядывался в зеркало, вновь и вновь терзался сомнениями. Зрение пыталось убедить его, что с ним все в порядке, но память твердила, что всего лишь час назад он наткнулся на доказательство своей страшной исключительности, Чем дольше он всматривался в зеркало, тем отчетливее в выражении его глаз проступало что-то странное и нечеловеческое. Быть может, виной тому был неровный свет газовой лампы или какая-нибудь трещинка в дешевом зеркале? Луциан нервно расхаживал по комнате и поминутно подходил взглянуть на свое отражение, пытаясь беспристрастно и отстранение оценить его. Быть может, виной всему случайно оброненное им же самим слово. Когда Луциан твердил себе, что все человеческое стало ему чуждо, он имел в виду лишь свою неспособность наслаждаться обычными радостями жизни. В конце концов, вовсе не обязательно быть чудовищем и искать на своем челе кровавую метку Вышнего Проклятия только оттого, что ты не любишь приглашений «на чашечку чая», болтовню соседей и шумные игры «здоровых английских мальчиков». Но что же увидела эта женщина, отчего побелели и застыли ее губы, а руки взметнулись вверх, словно у сломанной куклы? На миг она и впрямь показалась ему чудовищной ожившей куклой. Вопль ее был ужасен, как вопли летящих на шабаш ведьм.
Луциан зажег свечу и поднес ее к зеркалу, так что теперь мог видеть только свое отражение, а очертания комнаты расплылись в темноте. Пламя свечи и горящие глаза — вот что увидел Луциан. Внезапно ему показалось, что его глаза и впрямь утратили человеческое выражение. Луциан опустил свечу и прерывисто вздохнул — мгновенная и очень странная мысль пришла ему в голову. Он сам не знал, радоваться или ужасаться ей, и подумал: а вдруг он неправильно понял все происшедшее с ним в этот вечер и напрасно отвернулся от сестры, звавшей его на шабаш.
Всю ночь Луциан пролежал без сна — у него в мозгу проходила череда самых жутких и болезненно привлекательных догадок, и лишь на рассвете ему удалось задремать. Проснувшись, он попытался снова взять себя в руки. Луциан знал, что смысл всей его жизни заперт у него в столе, и отчаянно пытался прогнать уродливые фантазии и причудливые видения. Знал, что его спасение в работе, а потому первым делом вынул из кармана ключ и попытался отпереть стол. Но тошнотворное воспоминание о бесконечных бесплодных попытках оказалось сильнее разумных доводов, и он вновь отправился бродить по улицам. Много дней подряд он возвращался к старой усадьбе, не то страшась, не то желая новой встречи. Луциан твердо решил, что в следующий раз не примет вопль радости за вопль испуга и не оттолкнет рук, в исступленном восторге протянутых к нему. Он мечтал оказаться в каком-нибудь укромном темном месте, где они с той женщиной отпразднуют зловещую свадьбу, и осмеливался даже рисовать в уме обряды чудовищного праздника.
Письмо от отца вырвало его из объятий надвигавшегося безумия. Мистер Тейлор сожалел, что Луциана не было на Рождество — фермеры расспрашивали о нем. Отец писал о будничных домашних делах, ожививших в памяти Луциана впечатления детства — материнский голос, тепло семейного очага и все те старые добрые обычаи, среди которых он вырос. Луциан снова был мальчиком, обожавшим пудинг и кекс. Он вспомнил венки из остролиста и праздничное веселье, вот уже более двухсот лет согревавшее старые фермы. Священный трепет охватил его при воспоминании об утренней рождественской службе. От черной промороженной земли исходил сладкий запах. Луциан шел рядом с мамой по продуваемой всеми ветрами тропе. Дойдя до столба у поворота к церкви, они увидели, как в первых лучах солнца все начинает сверкать и блестеть, как движутся в поле приближающиеся к церкви огоньки. Внутри церковь, украшенная остролистом, светилась огнями свечей; и отец Луциана, в сияющей белой одежде, протяжно запел у алтаря, и собравшийся народ вторил ему, и вставало солнце, и «Отче наш» звучал торжественным хором, и красный солнечный свет загорался на окнах церкви.
Эти священные воспоминания вытеснили из сердца безумные мечты. Луциан отказался от страшной мысли, будто услышанный им вопль был проявлением радости, а сведенные судорогой руки желали обнять его. Он с омерзением вспоминал о том времени, когда эта непристойная фантазия казалась ему желанной, и тосковал по окоченевшим в испуге губам. Луциан решил, что чувства обманули его: он вообще не видел никакой женщины и не слышал никаких воплей, а просто перенес вовне свою болезненную навязчивую идею. Быть может, он сам виноват в том, что все его усилия кончились крахом, быть может, это страдание — воздаяние ему; однако, несмотря ни на что, он не должен навлекать на себя безумие.