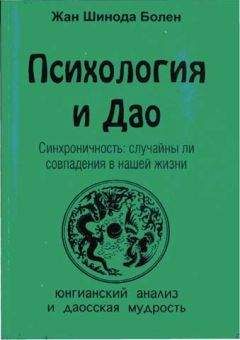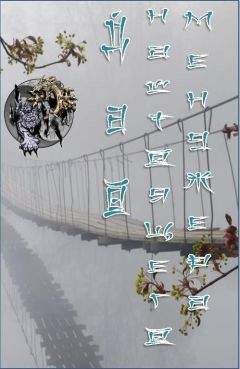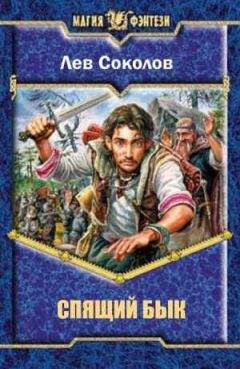Александр Сивинских - Открытие Индии (сборник)
Вот, в общем, и всё. К разводу я успел. Успел даже в заиндевелом коридоре одну бутылочку выпить. Второпях, на ходу, поэтому, наверное, пиво мне сперва не очень понравилось. (Потом-то распробовал, понятно.) Вторую – парням отдал. А третью до Приказа оставил.
Приказ мы отметили, как положено. Ребята с «Шустовским» (Ирочка моя для них расстаралась), я – с Аква Витой.
Потом-то мне ещё неоднократно в полости Земли побывать удалось. И одному и с друзьями. И с Ирочкой. Благо, болтливых Фофановых там нету, и застукать нас некому было. И всё бы хорошо, да одно только мне там не по душе было. До сих пор, как вспомню, натурально свирепею. Знаете, как эти гномы пиво называют?
Нет уж, промолчу лучше. Ради вашего же спокойствия.
2. Те, кого мы приручили
Четырнадцатый
Викуся перекатилась на живот, подставив солнцу румяные, замечательной формы ягодицы и узенькую спину с трогательно выпирающими лопатками, щёлкнула ногтем по дужке инфоочков, и с выражением процитировала: «Три миллиона жизней – плата за независимость или предательство?!» Минуты две шевелила губами, по-видимому, читая статью, и капризно скривила губки.
– А ответа-то и не дали! Тоже мне, видные писатели!
Она повернула лицо к Герману (из-за плеча виднелись только серебряные купола инфоочков, полоска загорелого лба да задорно торчащие пучки жёлтых и голубых волос) и сказала:
– Слушай, а почему бы тебе не обнародовать своё мнение по этому поводу?
Герман скромно улыбнулся и заморгал, не проронив ни звука. Ему было очень тяжело смотреть девушке в глаза – но не из-за скрывающих их зеркальных полусфер, а из-за того, что смотреть хотелось на загорелые… В общем, на её спину.
– Кончай отмалчиваться, – строго сказала Викуся. – Отдают-то твоих соплеменников. А вдруг их сейчас безжалостным образом расчленяют? Или того хуже – едят! Ты видел этих рьятто? Жуть, что за твари. Настоящие каннибалы!
Герман тяжело вздохнул. Сложившегося мнения по поводу трехмиллионной дани каннибалам из космоса у него не было. В конце концов, отдали-то всяких бродяг. Может, так даже лучше… Зато было у Германа желание. Необоримое. Он просеменил ближе к девушке и с трепетом лизнул её в пятку. Викуся дёрнула ногой и засмеялась.
– Блин, чувак, если бы ты был человеком, я бы решила, что ты ко мне пристаёшь.
«Если б я был человеком, так и случилось бы», – подумал Герман и лизнул Викусину икру.
– Уйди, безобразник!
В Германа полетела горсточка песка. Он ловко отпрыгнул.
– Ну нет, так просто ты не отделаешься!
Следующие десять минут они носились по пляжу, радостные как дети на дне рождения. Три миллиона жертв были напрочь забыты.
Потом вспотевшая, перепачкавшаяся в песке Викуся отправилась поплавать, а Герман остался охранять одежду.
Тогда-то его и поймали фурманщики.
* * *В фургоне, куда два мужика с рожами дегенератов и ручищами молотобойцев забросили Германа, оказалось на редкость просторно. Блестящий железный пол с низкими гофрами резко пах какой-то химией. Должно быть, антисептиком. На пластиковых стенах виднелись неглубокие следы когтей – прошлые пленники зачем-то пытались оставить память о себе. В углу, постанывая, жалось несколько товарищей по несчастью, явных бродяг. На Германа они взглянули искоса и тут же отвели глаза – не то боясь, что он воспримет прямой взгляд как вызов, не то по трусости, въевшейся в тело глубже, чем грязь подворотен. Он пренебрежительно фыркнул и демонстративно повернулся к бродягам задом. Ложиться не стал, широко расставив ноги, утвердился в центре камеры. Он был совершенно уверен, что это идиотское недоразумение скоро разрешится. Под кожей на груди у него находился чип, помимо прочего содержавший полную информацию о хозяевах.
Фургон качнулся и поехал. В кабине загрохотала музыка – нейротранс пришельцев. Викуся говорила, что на человеческих самцов он действует как стероиды: вызывает прилив сил, подъём либидо и неодолимую ярость.
Похоже, так оно и было. После сравнительно недолгой поездки фурманщики резко изменились, причём не в лучшую сторону. И без того грубые, они сделались совсем бешеными. Бродяг вышвырнули пинками, а Германа схватили за лапы, раскачали и с гоготом метнули наружу.
Упал он на мягкое, но порадоваться такой удаче не успел. Потому что увидел, что это было.
Шерсть.
Огромная куча собачьей шерсти, испачканной кровью, мочой и экскрементами, чей запах пробивался даже сквозь вонь вездесущего антисептика.
* * *Те же уроды – ценители нейротранса долго поливали пленников химикатами из шланга с двумя наконечниками, похожими на головки хищных птиц. Растворы несколько раз менялись – как цветом, так и на вкус, но пахли практически неотличимо. Бродяги во время мытья дважды обгадились; оба раза одновременно, точно по команде. У Германа тоже крутило живот, но он стоически терпел. Затем фурманщики вышли из камеры, и она начала быстро наполняться горячим воздухом. Включились вентиляторы. Шкура высохла практически мгновенно, а ещё через несколько секунд Герман почувствовал сильное головокружение и потерял сознание.
Очнулся он в алюминиевой клетке, дрожащим от холода. Шерсти на теле не осталось ни клочка. Сбривали её, видимо, как придётся – саднили многочисленные мелкие порезы. Почему-то сильно болела левая задняя лапа. Герман попробовал ею шевельнуть и едва не провалился в беспамятство снова – был вывихнут сустав. Похоже, чёртовы подонки опять швыряли его, раскачивая за конечности. Однако самым худшим было не это. На груди отсутствовал приличный кусок кожи. Рану залеплял плевок скверного дермогена – коричневато-жёлтого, склизкого на вид, но сухого будто пемза на ощупь.
Чип, вживлённый Герману на третий день после рождения, не только идентифицировавший его личность, но также стимулировавший мозговую деятельность и тем самым возвышающий над миллионами сородичей, отсутствовал.
Вот тут-то он не сдержался. Завыл.
Сначала он слышал только себя, но вскоре к его плачу начали присоединяться новые и новые голоса. Очень скоро вокруг стоял дикий, панический вой и лай, и скрежет зубов о решётки. Эта какофония отрезвила Германа. Он захлопнул пасть и осмотрелся.
Вокруг возвышались штабеля однотипных клеток, составленных буквой «П» в пять рядов. Там, где клетки отсутствовали, располагались широкие ворота, под которые уходили рельсы вроде трамвайных. Верхние ряды пустовали, однако нижние были заполнены почти под завязку. Сотни псов всевозможных пород и размеров бились голыми телами о стенки узилищ.
Это было дико, это было жалко и – омерзительно. Ни капли благородства не осталось в бедных животных, ни пылинки самоуважения. Никчёмный сброд горевал о своей бесполезной жизни. Герман вспомнил, что именно он стал катализатором этого безобразия и со стыдом прикрыл лапой глаза.