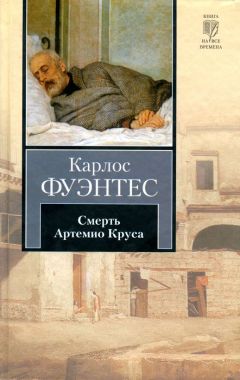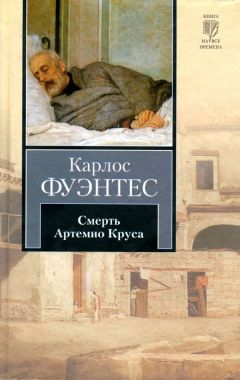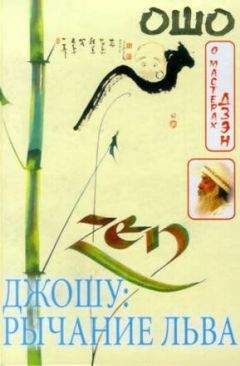Карлос Фуэнтес - Старый гринго
Теперь старый гринго уже умер, дождь кончился, пустыня пахла влажным креозотом, а генерал Томас Арройо разговаривал со своей большой, молчаливой и босоногой семьей: смотрите, смотрите, что я для вас сохранил в целости, — зеркальный зал, хорошее местечко, которое раньше принадлежало только им, его я не тронул, а остальное сжег: хозяйскую лавку, где дети наших детей не могли расплатиться за рубаху; я сжег конюшни, где лошади получали корм лучший, чем мы; сжег казарменные бараки, где солдаты-федералы из дня в день поглядывали на нас, ковыряя во рту стебельками и начищая свои штыки, вы помните? Я сжег грязные столовые, зараженные водоемы, зловонные отхожие места; конуры, где бесились и рычали псы, которых я хорошо знаю и боюсь даже во сне, мама родная, это я разнес вдребезги во имя вас, кроме того, что останется вам, если мы выживем: зеркальный зал.
— В детстве я все видел. Только меня никто не знал. А я знал всех, таясь по углам. И однажды нашел зеркальный зал, и нашел свое лицо свое тело. Я смог себя увидеть. Томас Арройо. Это и для тебя Росарио, и для Ремедиос, для Хесуса, Бенхамина, Хосе, моего полковника Фрутоса Гарсии, Ченчо Мансальво и для тебя, Куница, во имя всех хижин, и тюрем, и жалких мастерских, во имя вшей и циновок, во имя…
Все смотрели на него теперь с какой-то долей боязни, страшась за себя и за него. Смотрели на предводителя, смотрели на защитника, смотрели с тревожной грустью. Таким его видел Педрито в 1913 году, когда был одиннадцатилетним мальчишкой с монетой, пробитой пулей, с песо, спасенным в церкви из-под ног верующих. Поглядитесь в зеркало, и я увижу всех вас.
— Я больше вас, дети мои. Я тот, кто хранит бумаги. Кому-то положено это делать. У нас нет других доказательств, что эти земли — наши. Это завещание наших предков. Без него мы словно сироты. Я сражаюсь, ты сражаешься, мы все сражаемся, чтобы в конце концов эти бумаги показали свою силу. Наши жизни, наши души…
— Я никогда тебя не пойму, — говорила Гарриет.
И вот теперь старый гринго, которого он просил пальцем не трогать, лежал мертвым под радугой, полыхавшей в вечернем небе после грозы. Пустыня стала зеркалом самой себя, она вгрызалась в дно древнего моря, в гравий обширного побережья, покинутого водой, и генерал Томас Арройо, который никогда много не говорил, потому что у него были бумаги, теперь должен был говорить от имени сожженных бумаг. Теперь память принадлежала только предводителю и только им. А луноликая женщина знала, что ее мужчина, Томас Арройо, не бросает слов на ветер, он хранит слова.
Поэтому она тихо сказала дрожавшей гринге:
— Если он так много говорит, значит, с ним что-нибудь случится. Молчание было его лучшим другом.
В это время повстанцы сами стали сбивать своего предводителя, подаваясь вперед, накатывая волнами голосов и призывов, которые показывали ему, что он прав, что они будут жить с ним и без него.
— Пора идти вперед. Хватит возиться тут с зеркалами, мой генерал. Нам будет конец, если мы не соединимся с Вильей. Так и останемся летучей бригадой, а нам одним не добраться до Мехико.
— Моя судьба — это моя судьба, — сказал Арройо, оставшись один.
— А что будет с грингой? — сказала луноликая женщина Кунице в час, когда голоса звучат тихо, чтобы не разбудить землю. — Что будет с моим мужчиной?
Но Куница лишь громко расхохоталась, не заботясь о вселенском покое, и гаркнула, что ей до всех этих бумаг и зеркал, как до Вильсона — по тогдашней расхожей поговорке вильистских партизан.
— А что же для тебя самое важное? — спросила ее луноликая женщина.
И Куница опять рассказала ей, что была одинокой и непорочной девушкой в деревне близ Дуранго под надзором своей благочестивой тетушки Хосефы Арреола, когда пришел туда первый революционный отряд, и она с интересом взглянула на одного молодого и красивого, но с застывшей смертью в глазах парня, а он посмотрел на нее, подбежал и позвал с собой, чтобы не быть одному. Она ощутила в сердце тепло, очень грустное, но очень приятное, вроде как сострадание, и больше не вернулась домой, уйдя с парнем, который стал отцом ее дочки, а потом его сразила пуля в стычке возле Асенсьона. И вот говорят, теперь она шлюха.
— Нет, моя судьба — это моя судьба, — часто повторял в своих беспокойных снах генерал Томас Арройо той ночью, когда убил старого гринго, и когда ливень обрушился на пустыню, и сожженные слова криками разнеслись в воздухе.
XIX
Луноликая женщина завела граммофон и молча опустила иглу на крутящуюся пластинку. Из бежевого ребристого рупора в форме рога изобилия, украшенного фирменной черно-белой собачкой, которая слушает «Голос своего Хозяина», вырвался приглушенный, но отчетливый голос Норы Бэйз, певшей «В свете луны серебристой»:
Ву the light, light, light of the…
Гарриет снова подумала об Уобаше[46] и других нескончаемых реках Северной Америки и даже не взглянула на мексиканскую равнину в окошко стоявшего поезда.
Женщина не сказала, но дала понять, что незаигранная музыкальная вещица должна заглушить ее и без того приглушенный голос. Женщина, которая вечно боится, как бы ее не услышали мужчины, подумала Гарриет с некоторым презрением.
Зазвонил колокол приусадебной часовни.
Женщина, которую Арройо называл Луной, сказала, что странно слышать колокол и не знать, почему он звонит. Именно такой звон известил, что пришла революция в ее деревушку в Дуранго; колокола зазвонили тогда в час, когда не надо было звать ни к заутрене, ни к вечерне, ни по какому другому поводу. Как будто пришло новое время, сказала она, время, какого мы и представить себе не могли, и тогда она оглянулась на размеренный ход своего времени, когда одно поколение сменяет другое, подчиняясь традиционным временам года, назначенным часам, даже традиционным минутам. И сама она была так воспитана, жила скромно, да, в достатке, но скромно, отец — торговец зерном, муж — ростовщик в этой же деревушке, где все, дети и женщины, вставали в пять, чтобы успеть одеться затемно (это было очень важно — никогда не видеть собственного тела), а затем, в шесть, пойти в церковь и вернуться домой голодными, хотя и отведали «тела Христова»: чудо, не выходившее у нее из головы, тайна, будоражившая ее воображение: тело — в маленькой просвирке, тело мужчины, рожденного женщиной, так и не познавшей того, чем отличается мужчина от женщины. (Знаете, мисс Уинслоу, мы здесь приучены говорить очень как витиевато, с детства нам велено называть ноги «тем, чем мы ходим», зад «тем, на чем мы сидим», — смешок Луны прозвучал, как выдох), отведали тела Мужчины, который был Богом, тела мужчины, делившего свою божественную природу еще с двумя мужчинами (троица представлялась мне тремя мужчинами). Второй, из них — бородатый, могущественный и древний старец, сидящий на троне, в то же самое время первый — молодой человек, распятый на кресте, а третий мужчина — как призрак, без возраста, маг, называющий себя Дух, с добавлением — Святой и который в детских представлениях был, конечно, самым главным и мог быть кем хотел: единым в троих, тремя в одном, одним в лоне девы, а потом — вне этой девы, а потом — мертвецом, а потом — воскресшим и, наверное, вернувшимся обратно в троицу, оставаясь, однако, самим собой и в то же время всей троицей в одной облатке, во многих просвирках, в миллионах кусочков хлеба, в которых — во всех — был Он, вечный Труженик-Маг, Призрак Мира Призраков. И потому церковь превратилась для меня во что-то призрачное, так же как и мой дом, как сама моя судьба; все мы были призраки, то там, то здесь заменявшие друг друга: завтрак, уроки так называемого домоводства, обед, лавки, молитвы, ужин, фортепьянные пьески, раздевание в темноте — и в постель: жизнь девочки, и вы мне скажете: мол, неплохая жизнь, но когда мужчина надевает ярмо на эту девочку-девушку, мисс Гарриет, тогда такая жизнь становится мрачной, ужасно однообразной, словно все вокруг замирает и не видно впереди никакого просвета, и все вокруг гаснет, когда мужчина — отец, муж — рядом с тобой только для того, чтобы доказать тебе, что ты навсегда останешься женщиной-девушкой и что брак — это только нескончаемый акт ужаса, страха, что сейчас опять будешь наказана за то, что ты уже не маленькая девочка, потому что этот человек сначала насилием казнил девочку, еще не ставшую девушкой, а потом стал жестоко издеваться надо мной за то, что я не могла родить ему детей, за то, что обманула его своими густоволосыми подмышками, и промежностью, и пышной, но пустой, без молока, грудью; чтобы не видеть моего тела, моего лица, он завертывал меня в свою ночную рубашку, и все происходило моментально — я не знала наслаждений супружеской жизни, судьба мне в них отказала, хотя, глядя на себя в зеркало, я видела молодую цветущую женщину, но потом я больше не смотрела в зеркало, потому что стала видеть там просто перезрелую девочку, никуда не годную куклу, напевавшую все те же глупые детские песенки, осужденную на застойную жизнь: колокольный звон, заутрени, вечерни, исповеди, причастия, молитвы, удушливые благоухания в церкви и дома, проповеди, страх перед адом, любовь к Иисусу, любовь к Иисусу-человеку, любовь к обнаженному Иисусу-мужчине, на кресте и в его стеклянном гробу, любовь к прелестному голенькому ребенку Иисусу, прыгающему на коленях своей матери; жизнь моя остановилась. А мой муж каждую субботу вечером приказывал своим счетоводам созывать малоимущих жителей нашей деревни, мелких торговцев и ремесленников — в коричневых фетровых шляпах, в полосатых без воротничка рубахах и в наглухо застегнутых жилетах, — а также всю остальную бедноту: старьевщиков, свечников, немногих женщин, укутанных в ребосо и прячущих лица. Самую длинную очередь составляли сельские поденщики, которые не имели постоянной работы ни в какой усадьбе, и все они числились в должниках моего мужа. Длинная-предлинная очередь мужчин и женщин протягивалась по субботам во всю улицу, жаркую, пыльную, пустую улицу, где дома прятались за жалюзи; дома, замуровавшие сами себя, навесившие замки, словно пояса целомудрия, на свои ворота, мисс Гарриет, эти дома, сами посадившие себя за решетку — низкие чугунные балконы будто в клетки заточили лица домов, торчали, будто намордники на собаках, мисс, сеньорита, мой друг, можно мне называть вас своим другом?