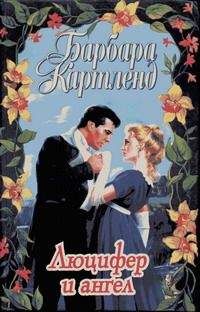Галина Островская - Талисман жены Лота
Аглая взяла клочок полуистлевшей бумаги, подписанный именем Иеремия.
Бумага дрожала от токов, бегущих по нервам памяти.
«Не сомневайся, любимая, я спасу тебя, – начала читать Аглая готическую вязь слов. – Я знаю способ спасти тебя. Мне нужно только несколько дней. Пусть Господь покарает меня, если я не избавлю тебя от мук».
На сердце женщины положила ладонь Надежда.
– Почему ты пришла ко мне? – спросила женщина.
– Я ко всем прихожу, – сказала Надежда безразлично, но с теплотой в голосе.
– Но мне не на что надеяться.
– Правильно, не на что. А ты надейся. Так легче, – усмехнулась миловидная гостья.
– Я не хочу, чтобы ты меня утешала.
– Хочешь, – сказала гостья. – Все хотят, чтоб хотя бы я осталась, когда уже все ушли.
– Неправда, – мотнула головой собеседница. – На самом деле ты уходишь всегда первая.
– А вот это – правда, – согласилась гостья. – Я действительно ухожу первой, только люди в это не хотят верить. Они надеются...
– Зачем ты всегда обманываешь их?
– Не знаю. Наверное, они сами хотят обманываться...
Гостья собрала тонкие нити невидимой паутины с задумчивого женского лица, дважды оглянувшись, тихо ушла лгать другим.
Аглая вытянула совсем маленький клочок бумаги, вытянула наугад:
«Любимый! Когда покрывало боли застелет мой разум, когда шлейфы смрадного дыма скроют от глаз солнце, сердце мое будет знать, что его сияние вечно. Ты – мое солнце. Казнь – завтра утром».
– «Казнь завтра утром...» – прошептала Аглая. – Утром... Я не боюсь казни. Я боюсь только того, что ты не простишь себя...
– Я не прощу себя, – услышала она вибрирующий у самого уха голос. – Ты была моя, и я не спас тебя...
– Ничего, любимый, – ответила Аглая, слабея от этого голоса... далекого... знакомого, тихого... как мертвый сад, в котором на тонких ветвях бесконечных деревьев качаются еще не рожденные сны... в котором заблудившийся ветер лежит, как заколдованный странник...
Аглая изо всех сил сжала голову руками. Лязгнул железный засов и раздался голос – другой.
– Как долго ты являешься ведьмой? Отвечай!
– Как... ты стала... ведьмой! Говори!
...говори... говори... говори... говори...
– Кого ты выбрала в качестве своего инкуба?! Имя!
Средневековая весна швырнула кровавый плащ на поднятую дыбу, застыла в экстазе последнего мига и исчезла.
Аглае больше незачем было читать пергаментные протоколы. Она все знала.
Она наяву увидела, все, что случилось тогда.
– Ты хотела на небо, там и очутилась, дорогая, – сказала она сама себе в лице молодой вдовы и продолжила задумчиво: – А пожить – не пожила. ...Тебя вырастили в чистоте и непорочности, замуж взяли прямо из монастыря... Помнишь тщедушного графа, мужа своего? Он концы отдал на дворовой девке, когда ты его дитя под сердцем носила... Граф дух испустил, а плод его в тебе так и не прижился. Как ты плакала над этим крохотным каменным гробиком!.. А потом увидела Иеремию... И он тоже тебя узнал... Ваша любовь не была плотской, она была безгрешна, ваша любовь...
У Аглаи на глаза навернулись слезы. Наспех засунув в сундучок четырехсотлетние свидетельства своего одиночества, она убрала их в шкаф. Потом машинально набрала нью-йоркский номер мужа, сообщила, что не приедет, потому что не приедет никогда. Что он, муж, может быть свободен в своих действиях, ибо она встретила другого человека и ждет от него ребенка. Что развод он получит, как только пожелает. Никаких материальных претензий к нему не будет предъявлено. Если ему, мужу, удастся устроить свою судьбу, она будет счастлива.
Разобравшись с прошлым, Аглая села рисовать любовь.
Жертва
– Пить, – прошептал Вульф и снова провалился в зыбучесть раскаленного беспамятства.
Чудовищный вихрь из крохотных кубиков обрушивался на него, острием вонзаясь в мозг.
– Пить...
Пересохшие губы жгло надменное солнце, жестокое, как палач.
– Пить....
Кто-то перевернул гигантские песочные часы, и острогранные кубики со скоростью воспоминания понеслись в обратную сторону.
Вульф услышал:
– Мы уйдем... Нам надо идти... Сыпучие пески заметут следы наши... Но ты всегда будешь... но ты всегда будешь... но ты всегда будешь...
– Ты? – спросил Вульф. – Это ты... Ты пришла... Ты вернулась...
Вульф протянул руки навстречу бесплотному миражу... Он хотел подняться...
– Не надо вставать... Нельзя... – пропел ласковый голосок за спиной.
Фарфоровое личико с узенькими серпиками черных лун склонилось над ним.
– Нельзя вставать – повторила маленькая служанка и нежными ручками приложила ко рту Вульфа влажную ткань.
– Дядю схоронили? – смотря в пустоту, спросил он.
– Хоронят, – мило улыбнувшись, кивнула дивная статуэтка. – Он скоро вернется.
– Кто? – глухо спросил Вульф.
– Он. Старик, – пояснила улыбающаяся девочка. – Я знаю, что он вернется... Посмотреть на ребеночка обязательно вернется...
– На какого ребеночка? – беспомощно переспросил молодой хозяин.
– На девочку, наверное... – засветилось фарфоровое личико.
Вульф закрыл глаза.
– Если рождается ребеночек в течение года, то тот, кто умер легко, обязательно возвращается, чтобы благословить роды, – помешивая серебряной ложечкой чай, рассказывала возбужденно таинственная островитянка. – Когда я рождалась, ко мне моя бабушка приходила. Я помню... Ой!
В дверях стояла Фаруда.
Плотная шаль горя укутывала тонкий стебель ее плоти.
Остуженные на жертвеннике запретного Знания угли глаз смотрели на Вульфа. И – чуть правее.
Аглая без конца точила мягкий карандаш. Выбрасывала один испорченный лист за другим. Думала. Снова принималась за работу.
Она рисовала любовь.
...По тонкой серебряной нити, над бездной, кишащей сомнениями...
...По бликам далеких звезд, не помнящих свои имена...
...По льду неверия...
...По заточенным пикам боли...
...По слепящему свету...
...Навстречу сгущающемуся счастью...
Шла Любовь.
Она была обнажена, беззащитна, но не одинока. В зеркальных чертогах ее ждало отражение, уже миновавшее опасный и трудный путь.
В дверь тихонько поскреблись. Аглая перевернула лист с рисунком обнаженной любви и пошла открывать, на ходу пытаясь понять, кого принесла нелегкая.
На пороге стояла еще сильнее потупившаяся Машенька.
– Простите, – сказала она, норовя просунуться в дверь.
Аглая не убрала руки с металлического холодного косяка.
– Вы уж простите, – зачастила старая девушка. – Простите, ради Бога, но у меня к вам еще порученьице... Ведь старуха-то, когда умерла, велела вам еще одно письмецо снести, да... То есть она тогда еще живая была, когда велела.