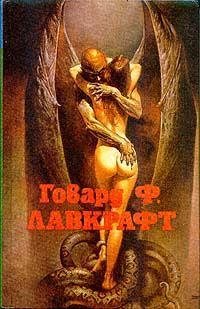Говард Лавкрафт - Некрономикон
Бездна при том не была пустотою пустот, в ней теснились неописуемых конфигураций сгустки веществ нездешних оттенков, одни производили впечатление органических, другие неорганических. Некоторые из органических форм будили смутные воспоминания на задворках сознания, но что именно они глумливо напоминают или вызывают по ассоциации, разумом постичь он не мог. В более поздних по времени снах он стал различать отдельные категории, на которые органические формы как будто делились и каждая из которых подразумевала свою собственную модель поведения и базовую мотивацию. Одна из этих категорий заключала в себе, как ему показалось, формы, в своих пертурбациях не столь выходящие за пределы всякой логики и смысла, как те, что составляли другие группы.
Все эти виды — и органические, и неорганические — абсолютно не поддавались описанию или хотя бы уразумению. Иногда Джилман уподоблял неорганическую материю призмам, лабиринтам, скоплениям кубов и плоскостей, титаническим зданиям; органические формы представлялись Джилману гроздьями пузырей, спрутами, многоножками, ожившими индуистскими идолами и изощренными кружевными сплетениями, оживленными к своего рода змеиному пресмыканию. Все, что он видел, было неописуемо грозным и ужасным; едва какое-либо из органических существ являло своим поведением, что он замечен, Джилман испытывал неистовый, животный страх, который обычно и заставлял его проснуться. О том, как органические существа передвигались, он знал не больше того, как передвигался сам. Со временем он сделал наблюдение еще более загадочное — некоторые из организмов имели склонность неожиданно возникать из пустого пространства или бесследно пропадать с той же внезапностью. Сумятица режущих, воющих звуков, которыми полнилась бездна, исключала любую попытку разложения их по высоте, тембру или частоте, но как будто согласовывалась во времени со смутными, видимыми глазу изменениями всей бесконечности форм, как органических, так и неорганических. Джилмана не оставляло чувство страха, что в одну из этих темных, неумолимо неминучих флуктуаций звук наберет невыносимую силу.
Но не в этой круговерти абсолютно нездешнего видел он Темную Дженкин. Гадкое маленькое страшилище поджидало его в определенных, более поверхностных и отчетливых сновидениях, во власти которых он оказывался до того, как проваливался в самый глубокий сон. Борясь с дремотой, он лежал в темноте, когда в комнате, ведущей счет столетиям, как будто возникало слабое мерцающее сияние, в фиолетовой дымке которого виднелись сходящиеся в одной точке плоскости, столь коварно заполнившие его сознание. Страшилище, казалось, выскакивало из крысиной норы в углу и, топоча, подступало к нему по широким проседающим половицам со зловещим ожиданием на крошечном бородатом личике; однако, даря избавление, сновидение всегда расплывалось раньше, чем тварь подбиралась достаточно близко, чтобы приткнуться к нему. У нее были дьявольски острые и длинные волчьи зубы. Джилман каждый день пытался заткнуть крысью нору, но каждую ночь настоящие обитатели подполья прогрызали препятствие, каким бы оно ни было. Однажды он попросил домовладельца забить дыру жестью, но на следующую ночь крысы прогрызли новую, вытолкнув при этом в комнату странный осколок кости.
Джилман не стал обращаться со своей горячкой к врачу, поскольку знал, что не выдержит экзамена, если отправится в лазарет, когда требовалось, не теряя ни минуты, зубрить. Вышло так, что он провалился на дифференциальном исчислении и основном курсе общей психологии, однако не без надежды наверстать упущенное до конца семестра.
В марте в его видениях предсонья появился новый элемент: кошмарный образ Темной Дженкин стал сопровождаться расплывчатым пятном, в котором все больше и больше проявлялось сходство со сгорбленной старухой. Эта дополнительная деталь тревожила его больше, чем он мог себе объяснить, но в конце концов он решил, что она напоминает ему древнюю каргу, которую действительно дважды встречал в темном лабиринте переулков у заброшенных причалов. В тех двух случаях злобный, издевательский и невесть чем вызванный взгляд старой чертовки бросил его едва ли не в дрожь — особенно в первый раз, когда огромная крыса, метнувшись наперерез в самом начале ближайшего сумрачного переулка, заставила его вне всякой логики подумать о Темной Дженкин. Теперь же эти невротические страхи, размышлял он, находили свое зеркальное отражение в его сумбурных снах.
То, что старый дом оказывает на него нездоровое влияние, отрицать он не мог, но остаток прежнего болезненного интереса все еще удерживал его. Он твердил себе, что в его еженощных фантазмах повинна одна мозговая горячка, и когда приступ пройдет, он избавится от чудовищных видений. Видения между тем захватывали своей яркостью и убедительность, и всякий раз, просыпаясь, он сохранял смутное чувство, что претерпел гораздо больше того, чем оставалось в памяти. В нем жила жуткая уверенность, что в позабытых снах он беседовал и с Темной Дженкин, и со старухой, что они подстрекали его отправиться с ними куда-то и предстать перед третьим, более могущественным существом.
К концу марта он начал подтягивать свою математику, хотя другие дисциплины доставляли ему все большее беспокойство. Он интуитивно нащупал подход к решению уравнений Римана[2], а своим пониманием четырехмерных и других пространственных объектов, ставивших остальных студентов в тупик, вызывал изумление профессора Апхейма. Однажды возник спор о возможности странных искривлений пространства и о том, какова вероятность сближения или даже контакта нашей части космоса с другими его областями, не менее удаленными, чем самые далекие звезды или бездны за пределами галактики, даже столь баснословно далекими, как гипотетически постигаемые космические единицы за пределами эйнштейновского пространственно-временного континуума. Трактовка Джилманом этой темы преисполнила всех восхищения, хотя некоторые примеры, приведенные им в пояснение своих гипотез, усугубили толки — в чем и так не было недостатка — о его нервической и бегущей людей эксцентричности. Покачать головой их заставила и его холодно-рассудочная теория о том, что человек, обладай он математическим знанием, возможность обретения которого для среднего обывателя весьма маловероятна, мог бы преспокойно шагнуть с Земли на любое другое небесное тело, находящееся в одной из бесконечного множества конкретных точек в космическом узоре.
Подобный шаг, сказал он, уложился бы всего в две фазы: фазу выхода из трехмерной сферы, известной нам, и фазу входа в трехмерную сферу в другой, бесконечно удаленной точке. Осуществить подобное, не лишившись при этом жизни, казалось, однако, делом вполне мыслимым. Любое существо из любой точки трехмерного пространства могло бы, очевидно, выжить в четвертом измерении; а жизнь его во второй фазе будет зависеть от того, какой окажется инаковость той части трехмерного пространства, которую он изберет для своего вхождения. Обитатели некоторых планет могли бы выжить на некоторых других — даже принадлежащих к иным галактикам или иному пространственно-временному континууму, — хотя, конечно, должно существовать огромное количество обоюдно необитаемых, пусть математически и сополагаемых, небесных тел и космических зон.