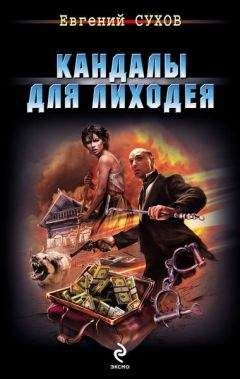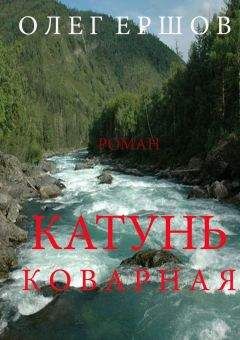Мария Барышева - Мутные воды дельты
Не знаю, сколько я пролежал в обмороке — думаю, недолго. А прихожу в себя от того, что Вита дергает меня за плечо и плачет, почти воет, и первая моя мысль похожа на торжествующий вопль: «Я удержал! Я ее вытащил!», вторая — испуганный вопрос «Где он?!» Я пытаюсь встать, но Вита тут же визжит и кидается мне на шею, и я, ойкнув, валюсь вместе с ней обратно.
— Ты живой?! — Вита облегченно и радостно хлюпает носом. — А я думала, что ты умер. Ты весь в крови, страшно. Я обтерла чуть-чуть, но у тебя там такое… где губа…
Я осторожно ощупываю лицо и обнаруживаю, что, открывая зубами нож, почти пополам разрезал себе нижнюю губу, и кровь медленно струится по подбородку, и вода на дне лодки, где мы лежим, уже красноватого оттенка. Но что такое порезанная губа в сравнении с тем, что мы живы?!
— Ничего, — бормочу я невнятно, потому что стараюсь губой не шевелить, — заживет.
Губу мне потом зашьют, и шрам останется на всю жизнь, стянув губу тугой неровной ниточкой и придав мне мрачноватый бандитский вид. Ни усами, ни бородой этого не закроешь, и некоторых женщин этот шрам будет отпугивать, но дочери Лене он очень нравится — она говорит, что с ним я похож на пирата или разбойника — она без ума от пиратов и разбойников.
Кое-как я все же приподнимаюсь и оглядываюсь. Нас тихо несет вдоль берега по краю фарватера, навстречу идет понтон, но, судя по всему, лодку он задеть не должен. Все равно нужно возвращаться — плыть придется теперь очень далеко, и я с ужасом думаю о том, как буду заводить мотор — руки у меня в плечевых суставах болят страшно, и даже опираться о дно лодки мне очень трудно. От Виты вообще никакого толку — она напугана до смерти, у нее болят легкие и горло от крика и речной воды, которой она успела наглотаться, руки у нее тоже болят, а правая нога, за которую схватил сом, вывихнута, и щиколотку почти опоясывает багрово-синяя ссадина, распухающая прямо на глазах. Я говорю Вите, чтоб она отпустила мою шею, пытаясь все время оглядываться — не видно ли где сома? Мне кажется, что весла нужно поскорее вытащить из уключин, словно сом может, вернувшись, забраться по ним к нам в лодку.
— Надо заводить мотор, а то в море унесет.
Но она не отпускает меня и продолжает реветь, и я не знаю, что делать. Женские слезы и много лет спустя ввергают меня в абсолютно растерянное беспомощное состояние, и моя Ленка знает это и прекрасно этим пользуется. А тогда я и вовсе не знаю, как быть, и говорю Вите первое, что приходит в голову:
— Эх, ты! А еще стихи читаешь!
Как ни странно, это действует, и Вита отпускает меня, и перестает плакать, только шмыгает носом. Я ползу к кормовой банке и пробую запустить мотор. Наверное, покровитель всех моторов сжалился надо мной тогда, и спустя несколько секунд «Казанка» мчится вверх по течению, а весла, вытащить которые у меня уже нет сил, мотаются туда-сюда, хлопая по воде. Я сижу на банке и держу румпель, а Вита устроилась на дне лодки, уткнувшись подбородком в мое колено и крепко вцепившись мне в ногу, — теперь-то никому не удастся ее утащить — и это отчего-то очень льстит моему самолюбию. Мы идем по длинной диагонали, постепенно приближаясь к берегу, а нам навстречу мчится другая моторка, и мне кажется, что я знаю, кто в ней. Встречный ветер размазывает кровь по моему лицу и шее, сдувает ее прочь, точно хочет спрятать все следы происшедшего. Если бы еще он заодно сдул мой страх, и боль, и бесконечную усталость — мне кажется, что я стал таким же старым, как Архипыч, и нисколько не удивлюсь, если в нашем трюмо, дома, увижу свои поседевшие волосы. Дома, да… скоро мы будем дома. Вернее, я.
— Лень… кто это был? Это та рыба, про которую ты тогда говорил? Когда я тогда еще прикинулась, что меня… — слова застревают у Виты в горле, и она снова начинает хлюпать носом. Мне больно говорить, поэтому я просто киваю, понимая, что обманывать нет смысла.
— Значит, поэтому Веня не вернулся? Значит… он больше не вернется? Я… а я думала, найду его… — рот у нее жалко кривится, и я понимаю, что ей и в самом деле никто ничего не сказал о гибели брата. — Значит, я зря плавала?
Я неопределенно пожимаю плечами, хотя мне хочется сказать ей, что совсем не зря — ведь я смог ее удержать, как не смог удержать Веньку. Но вслух я говорю:
— Зря только блохи скачут!
Моторка уже совсем рядом, и я вижу что в ней Валерий, какой-то незнакомый мужчина и мой отец, и мысленно съеживаюсь, представляя, как сейчас нам с Витой влетит за лодки.
— Леня-а, — вдруг тянет Вита снизу с давно знакомым мне невинно-хитрющим выражением лица, но при этом у нее такие глаза, словно она идет по весеннему льду. — Лень! А я тебе наврала!
— Это насчет чего?
— Ну что я шарики выбросила. Ты если найдешь еще, ты мне приноси, ладно?
Я невольно улыбаюсь — про себя, улыбаться снаружи очень больно.
— Ладно.
— Хочешь, я тебе всегда буду бычков ловить? Даже червей копать буду сама. Хочешь?
— Ага. Пойдет.
Больше она не говорит мне ни слова, да это и не нужно — все уже сказано. Я смотрю, как приближается моторка, и чем ближе она, тем мне спокойней и тем отчетливее я понимаю, что все самое плохое для нас с Витой уже позади.
Поравнявшись с нами, Валерий кричит:
— Глуши мотор — я перелезу! Ленька!
Отец смотрит на меня с облегчением, но потом на его лице появляется ужас, когда он видит, что со мной стало. Я машу ему свободной рукой и кричу — по возможности внятно:
— Пап, все нормально! Я потом объясню! Дядя Валера, я с лодкой ничего не сделал!
Моторка закладывает вираж и теперь мчится параллельно нашей, и Валерий с отцом дружно кричат, что они все знают, и какие-то мужики видели с берега, как здоровенная рыба сдернула нас с Витой в воду, и чтобы я немедленно остановился, черт бы меня подрал!
— Я доведу! — отвечаю я! — Я сам! Дядя Валера, я сам! На берегу всыпете!
Валерий чешет сначала затылок, потом подбородок и машет рукой:
— Веди!
Мой отец начинает протестовать, и Валерий тихо говорит ему что-то, а потом повторяет мне:
— Веди! Эх!.. А весла бы прибрал, мерзавец этакий!..
* * *С того дня прошло семнадцать лет, и все теперь другое — и жизнь, и люди, и я, и, наверное, Волжанск — я давно в нем не был, и порой, когда я думаю об этом, то поражаюсь, каким рассудительным и осторожным я стал. Где мои задиристость и отчаянная глуповатая храбрость, где веселая, простая, бескорыстная жизнь и где все те люди, которые меня окружали? Когда я уехал учиться в институт, а позже переехал в Кострому, то первое время мне казалось, что я поменял не города, а вселенные. Со мной не осталось почти никого из старых друзей и знакомых, теперь я солидный семейный человек, и если что и преследует меня неотрывно с волжанских времен, так это сны. Глупо, но иногда я даже рад этим кошмарам. Ведь детская память милосердна к лицам — она долго держит в себе события, но быстро разглаживает лица, и спустя столько лет я совершенно не помню своих друзей. У меня нет их фотографий, и видеть их четко, ясно я могу только во снах. Если бы только эти сны были о другом!.. Но всегда одно и то же — и теплый парапет под ногами, и беззаботные друзья там, внизу, в мутной желтой воде, и рассветное небо, и смеющаяся Юй с цветком календулы в волосах, и мы снова плывем… плывем — уже много лет. А если мне случается посмотреть какой-нибудь фильм ужасов, вроде тех «Челюстей», я смеюсь, и из-за этого жена, как и сегодня вечером, считает меня сумасшедшим и смотрит на меня косо.