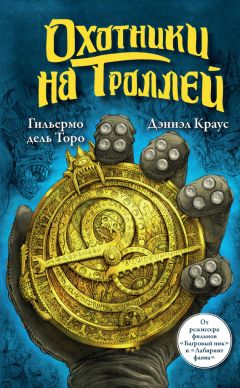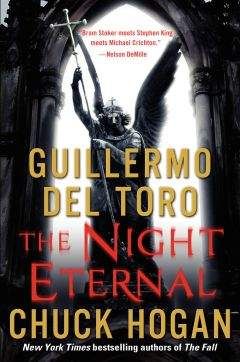Гильермо дель Торо - Штамм. Вечная ночь
Снижайся.
И опять у нее перехватило дыхание. Этот голос — она сразу же узнала его. Пес из ее дома в Коннектикуте, ньюфаундленд по имени Ральфи. Этот голос она слышала у себя в голове каждый раз, когда разговаривала с ним, когда взъерошивала его шерсть, прижималась к нему, а он тыкался носом в ее ногу.
Хочешь гулять?
Да, хочу, очень хочу.
Хочешь вкусненького?
Очень! Очень!
Кто хороший мальчик?
Я Я Я.
Я буду скучать без тебя в космосе.
Я тоже буду скучать и ждать, милочка.
Именно этот голос и говорил с ней теперь. Тот самый голос, которым в воображении разговаривал с ней Ральфи. Так или иначе, это был голос дружбы, доверия и привязанности.
— Правда? — снова спросила она.
Талия представила: она пройдет по кабинам, будет продувать двигатели малой тяги, пока не пробьет корпус. МКС, величайшее инженерно-техническое сооружение из соединенных между собой капсул, ляжет на бок и сорвется с орбиты, загорится, входя в верхние слои атмосферы, полетит дальше, как горящий таран, войдет в отравленную корку тропосферы.
И потом уверенность наводнила ее, как наводняют эмоции. Даже если она просто-напросто сошла с ума, теперь, по крайней мере, она могла чувствовать себя свободно, не сомневаясь, не задаваясь лишними вопросами. И по крайней мере, это не будет похоже на то, что случилось с Меньи, который галлюцинировал и пускал слюни.
Патроны вставляются в ствол с тыльной стороны.
Она пробьет корпус, впуская вакуум внутрь, и полетит на Землю вместе с кораблем. Она всегда подозревала, что именно в этом ее судьба. Это решение исполнено красоты. Родившаяся из падающей звезды Талия Чарльз сама собиралась стать падающей звездой.
Лагерь «Свобода»
Нора посмотрела на заточку.
Она возилась с ней всю ночь. Устала, но гордилась собой. Мимо нее не ускользнула ирония ситуации: столовый нож-убийца. Такой изящный, а теперь с заточенным острием и лезвием. Еще есть несколько часов — она наточит его до идеального состояния.
Нора заглушала лязганье металла об угловой бетонный выступ, прикрывая нож пухлой подушкой. Мать спала в нескольких шагах от нее. Спала без просыпу. Они вместе ненадолго. Днем ранее, может быть через час после возвращения от Барнса, им вручили приказ на переработку. В нем содержалась просьба к матери Норы покинуть зону отдыха на рассвете.
Обеденное время.
Как они собираются «перерабатывать» ее? Нора не знала. Но она этого не допустит. Она вызовет Барнса, сдастся, подойдет к нему и убьет. Она либо спасет мать, либо покончит с ним. Если она и останется с пустыми руками, то они, по крайней мере, будут в крови предателя.
Мариела пробормотала что-то во сне, а потом снова захрапела — низкий, но тихий храп был так хорошо знаком Норе. Этот звук и ритмическое колыхание материнской груди убаюкивали Нору ребенком.
Ее мать в те времена была внушительной женщиной. Природа ее не обидела. Она работала без устали и правильно воспитывала Нору — всегда в заботе, всегда готовая дать то, что ей нужно, — образование, степень, а также приличествующую им одежду и роскошь. Нора получала и выпускное платье, и дорогие учебники, и ни разу мать не пожаловалась.
Но как-то ночью перед Рождеством Нору разбудили приглушенные рыдания. Ей тогда было четырнадцать, и она особенно доставала мать — ей ужасно хотелось новое платье к пятнадцатилетию…
Она тихо спустилась по лестнице и остановилась в дверях. Мать сидела одна, перед ней стоял полупустой стакан с молоком, лежали очки и счета к оплате.
Нору парализовало это зрелище. Это было все равно что увидеть плачущего Бога. Она хотела было войти и спросить, что случилось, но тут плач перешел в рыдания. Мать заглушала эти звуки, нелепо закрывая рот обеими руками, но из глаз ее текли слезы. Это повергло Нору в ужас. Кровь застыла в жилах. Они никогда потом не говорили об этом случае, но в ее памяти навсегда остался этот образ боли. Нора изменилась. Может быть, навсегда. Она стала лучше заботиться о матери и о себе и всегда работала больше, чем остальные.
С развитием слабоумия мать Норы все чаще стала сетовать. На все и постоянно. Ее негодование и гнев, которые копились годами и смирялись благовоспитанностью, теперь проливались потоками несвязного занудства. И Нора принимала все это. Она знала, что никогда не бросит мать.
За три часа до рассвета Мариела открыла глаза, и короткое мгновение их взгляд был ясен. Время от времени подобное случалось, но теперь реже, чем прежде. В некотором роде, думала Нора, ее мать как стригой: ее воля вытеснена чужой волей, и когда она вырывалась из клетки своей болезни и смотрела на Нору, у той мороз подирал по коже. Смотрела на Нору, как сейчас, здесь, в этой комнате.
— Нора? Мы где?
— Ш-ш-ш, мама. Все хорошо. Поспи еще.
— Мы в больнице? Я больна? — возбужденно спросила она.
— Нет, мама, ты не больна. Все в порядке.
Мать крепко сжала руку Норы и улеглась на кушетку. Погладила ее бритую голову:
— Что случилось? Кто это с тобой сделал?
Нора поцеловала старческую руку.
— Никто, мама. Они отрастут, вот увидишь.
Мариела посмотрела на Нору абсолютно ясным взглядом и после долгой паузы спросила:
— Мы умрем?
И Нора не знала, что ответить. Она разрыдалась, и теперь мать утешала ее — обняла, нежно поцеловала в голову.
— Не плачь, детка. Не плачь.
Мариела обхватила голову дочери руками, посмотрела ей прямо в глаза и сказала:
— Оглядываясь на свою жизнь, понимаешь, что ответ на все вопросы — любовь. Я люблю тебя, Нора. И всегда буду любить. И этого никто у нас не отнимет.
Они уснули вместе, и Нора забыла о времени. Когда она проснулась, на небе только-только начало проясняться.
Что теперь? Они в ловушке. Рядом нет ни Фета, ни Эфраима. Отсюда нет выхода. Один только столовый нож.
Она в последний раз посмотрела на его заточку. Она подойдет к Барнсу и убьет его, а потом… потом, может быть, убьет и себя.
Вдруг Норе показалось, что нож туповат. Она точила лезвие и острие до самого рассвета.
Станция очистки сточных вод
Стэнфордская станция очистки сточных вод располагалась под шестиугольным зданием красного кирпича на Ласалль-стрит между Амстердам-авеню и Бродвеем. Построенная в 1906 году станция отвечала потребностям района с учетом его роста на ближайшие сто лет. В течение первого десятилетия станция перерабатывала около четырех миллионов литров нечистот в день, но приток населения, ускоренный двумя мировыми войнами, привел к тому, что мощности станции перестали справляться с очисткой возросших объемов. Кроме того, жители района стали жаловаться на удушье, глазные инфекции и сероводородный запах, круглосуточно исходящий из здания. Станцию закрыли частично в 1947 году и полностью — пять лет спустя.
Внутри она была громадной, даже величественной. В промышленной архитектуре начала века было какое-то благородство, позднее утраченное. Сдвоенные кованые лестницы вели к мосткам наверху, а чугунные структуры, которые отфильтровывали и обрабатывали нечистоты, остались практически в своем изначальном виде. Выцветшие граффити и отложения ила глубиной в метр, сухие листья, собачье дерьмо и мертвые голуби — только они и свидетельствовали о том, что станция заброшена. Год назад Гус Элисальде набрел на это сооружение, вручную вычистил один из резервуаров и превратил его в личный арсенал.
Попасть туда можно было только через туннель и только через массивный железный клапан, запертый на тяжелую цепь из нержавеющей стали. Гус хотел продемонстрировать свой потайной арсенал и вооружиться к предстоящему налету на лагерь. Эф остался снаружи — ему нужно было побыть одному, после того как он впервые за два года увидел на экране монитора сына стоящим рядом с Владыкой и обращенной матерью. Фет снова проникся пониманием к Эфу — зловредный вампирский штамм поставил доктора в поистине безвыходное положение. Фет сочувствовал товарищу. И тем не менее на пути к импровизированному арсеналу Василий сдержанно осуждал Эфа, сетовал, что тот никак не может сосредоточиться на главном. Но его сетования носили чисто практический характер, в них не было злобствования или ненависти. Может быть, немного ревности, поскольку Гудвезер мог встать между ним и Норой.
— Не нравится он мне, — признался Гус. — И никогда не нравился. Он грызет себя, потому что у него нет того, что было, и из-за этого он теряет то, что есть, и потому постоянно несчастлив. Он этот… как ты говорил?
— Пессимист, — подсказал Фет.
— Говнюк, — кивнул Гус.
— Досталось ему в жизни, — пожал плечами крысолов.
— Неужели? Ах, какая жалость. А я вот тоже всегда мечтал, чтобы моя мать стояла голой в каком-то долбаном шлеме, приклеенном к ее долбаной cabeza.[17]