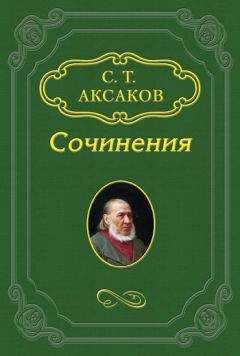Карл Штробль - Кровопускатель
"Нелегко быть любезным, когда боишься увидеть какую-нибудь чертовщину", — подумал доктор, заставляя себя повиноваться. Перед ним стоял его двойник, созданный фантазией неведомой силы, и он отличался от первого лишь тем, что усмехался, когда тот дрожал от страха, и, в отличие от него, сжимавшего под мышкой пару обвисших ботфорт, опирался подбородком на серебряный набалдашник трости.
— Я думаю, — сказал доктор Эузебиус Хофмайер Второй, — что в этом облике сестры не помешают мне войти, ибо, в противном случае, это будет значить, что они решили больше не допускать в монастырь избранного и укрепившего свою репутацию многолетней практикой врача, что противоречило бы их собственным привычкам и нуждам.
Хофмайер Первый что-то пробормотал, пытаясь скрыть свой страх и растерянность. Проклятое сходство, грозившее свести доктора с ума, было во всем, вплоть до кружевной манишки, в соответствии с обычаем того времени, выпачканной кое-где нюхательным табаком, коротких штанов, туфель с пряжками и тощих икр, а также бородавки над левой бровью и родимого пятна на щеке. Даже то забавное, что можно было усмотреть в сложившейся ситуации, если подойти к ней диалектически, мгновенно пресеклось этим пугающе похожим зеркальным двойником, как будто он почувствовал, что доктор пытается сосредоточиться, дабы вновь обрести дар слова.
— Теперь наше сходство достаточно, чтобы я, с вашего любезного согласия, мог исполнять ваши обязанности в монастыре — и, осмелюсь заметить, хорошо исполнять, остается лишь получить от вас plenam potestatem, необходимые полномочия. Если же вы колеблетесь, соблаговолите припомнить, что одновременно с принятием оказанной мной услуги вы, согласно действующему праву, взяли на себя обязательство оказать ответную и не можете уклониться. Так что по рукам!
Доктор Эузебиус Хофмайер Первый был слишком ошеломлен, чтобы протестовать, он протянул дрожащую руку, но, прежде чем Второй успел ее коснуться, произошло нечто невероятное. Мертвая девушка села на прозекторском столе и, в то время как одной рукой она пыталась стыдливо прикрыть свою наготу, вторую подняла в знак предостережения. Этот безмолвный призыв не укрылся от хищного взгляда Хофмайера Второго.
— Замри, назойливая девица, и не смей совать нос в дела, которые выше твоего разумения! — загремел он. — Каково бесстыдство! И такое отребье еще хочет, чтобы de mortuis nil nisi bene! Я приказываю тебе лежать! — крикнул он еще раз и ударил покойницу набалдашником трости так, что она рухнула на стол, снова недвижимая и окостенелая.
Доктор Хофмайер Первый механически вложил руку в протянутую ладонь Второго; в этом состоянии он мог бы окунуть ее даже в расплавленный металл и ничего не почувствовать.
По комнате прокатился торжествующий хохот — словно шаровая молния разорвалась в зловещей темноте, и следом наступила тишина, в которой было слышно, как подрагивает пестик в фаянсовой ступке. Эузебиус Хофмайер Второй исчез, как будто рассыпался в прах вместе со своим смехом, и все поглотила черная воронка безмолвия.
* * *Этим утром глазок в монастырских воротах между Адамом и Евой приоткрылся уже в третий раз. В круглую прорезь был виден скрюченный сапожник, демонстрировавший улочке свое усердие, пекарь, который в перерыве между утренней и послеобеденной выпечкой булочек выбрался из своего подвала и с глубокомысленным видом ковырял в носу, а собака мясника, вытянув лапы, улеглась посреди дороги и не обращала внимания, когда немногочисленные повозки прокатывались над ней по тихой улочке. Путь в обитель Невест Христовых лежал между прародителями Адамом и Евой, статуи которых наивная вера и набожная простота воздвигли по обе стороны монастырских ворот. Адам и Ева, изображенные во весь рост, нагие, но без особых признаков пола, среди деревьев окаменевшего Рая, чья листва переплеталась, образуя свод над створками, неразберихи цветов, плодов и животных, казались заглавными буквами какого-то мудреного текста. Здесь читалась простодушная гордость, вера в то, что создаваемое угодно Богу, и удовлетворение, объединившее строителей, архитектора и скульптора, принимавших участие в сооружении этого старого, некогда патрицианского дома. Сестра Урсула сказала шедшей следом по коридору сестре Варваре:
— Подумать только — он до сих пор не пришел! Для человека, привыкшего к пунктуальности, такая вопиющая неаккуратность…
— Верно, верно! — с трудом переводя дух, подхватила сестра Варвара и попыталась повернуться в тесных сенях, однако беспомощно застряла в узком проходе. Ее ленивая душа была облечена телом, за время монастырской жизни втрое прибавившим в весе, и нелегко мирилась с маленькими неудобствами, которые ей доставляла тучность. Она предпочитала уединиться от шумного и неуютного мира за толстыми стенами и покоиться среди подушек, будто страдающая астмой разжиревшая комнатная собачка. Сестра Урсула вспомнила о своих христианских обязанностях, энергично уперлась в заднюю стену и вытолкнула сестру Варвару в маленький садик. Здесь, среди чахлых кустиков, которые выглядели так, словно стыдились опыляться и плодоносить в этих стенах, прогуливались монахини. Фантазерка Доротея превратила смородиновые кусты в сады Армиды, а скупую тень единственной кривой груши в девственный мрак цейлонского леса. Острой на язык Агате все нехитрые события и редкие случайности этого маленького мирка давали пищу для язвительных замечаний и насмешек, которым покорная Анастасия, из какой-то странной потребности к унижению, намеренно себя подставляла. Их мирила хлопотливая Текла, вечно снедаемая жаждой деятельности. Меланхоличная Ангелика бродила среди сестер с опухшими от слез глазами, будто воплощение неотвратимого несчастья, и ей, одержимой страстью к покаянию, доставляло удовольствие ходить босиком по усыпанной колючим гравием дорожке. Все комнаты и садик бывшего патрицианского особняка пропитывал дух абсолютной бесполезности, разжигавший кровь этих женщин, пока не возникала необходимость в ланцете врача. И все же где-то в закоулках этого дома, в самых потаенных уголках их душ таился бледный отвергаемый призрак, который едва можно было назвать надеждой на что-то по ту сторону этих стен — сверкающее облаками летнее небо или полную звуков землю под ногами, робкое ожидание, которое напрасно к ним взывало. В настоятельнице Базилии этот Дух Бесполезности, казалось, сосредоточил всю свою силу, и его трезвое равнодушие служило ей щитом, когда приходилось гасить возбуждение сестры Урсулы.
— Твои суждения чересчур горячи и поспешны, дитя мое. Он придет, потому что это его обязанность, если же он медлит к ней приступить, значит, на то есть причины.