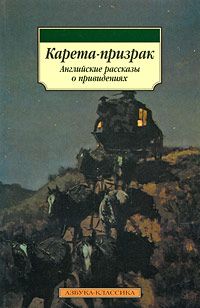Маргарет Олифант - У открытой двери
Я поглядел на него с порога его комнаты, боясь приблизиться и потревожить его бесценный сон. Со стороны казалось, что это сон не летаргический, как, по словам жены, порой теперь случалось. Мы с ней удалились в смежную комнату. То и дело подходя к дверям детской, я выслушал ее рассказ, в котором было много поразительного и смущающего ум. Оказалось, что с самого начала зимы, когда стало рано темнеть и ночь наступала до его возвращения из школы, ему начали слышаться голоса среди развалин; как он признался, поначалу то были лишь стоны, которых его пони пугался, как и он, а немного погодя — плач и слова. По щекам жены текли слезы, когда она описывала, как он срывался по ночам с постели с жалостным криком: «О, матушка, впустите меня! Матушка, впустите меня!" У нее просто разрывалось сердце. Она сидела у его постели до утра, желая только одного — исполнить все, чего его душе угодно. Но хотя она пыталась успокоить его, повторяя: «Ты дома, милый мой. Я рядом с тобой. Разве ты не узнаешь меня? Твоя мать с тобой», — он лишь глядел на нее и спустя некоторое время вновь вскакивал с тем же криком на устах. Порою он бывал в полном рассудке, рассказывала она, лишь спрашивал нетерпеливо, когда же я вернусь, но заявлял, что тотчас по моем приезде пойдет со мной и «впустит их».
— Доктор полагает, что он перенес какое-то тяжелое нервное потрясение, — объяснила мне жена. — О, Генри, не переусердствовали ли мы, заставляя его, такого хрупкого, заниматься? Да и что стоят его успехи в сравнении с его здоровьем? Даже ты немного дал бы за его призы и первые места, если бы знал, что это ему во вред.
«Даже я!» Словно я был жестокосердный отец, готовый пожертвовать ребенком ради своего честолюбия. Но я не стал растравлять ей душу возражениями. Вскоре домашние убедили меня прилечь и подкрепиться, чего я не делал с тех пор, как получил письма. Сознание, что я на месте, под рукой, несомненно очень успокаивало, а уверенность в том, что меня позовут, как только он проснется и захочет меня видеть, позволила мне по утренней поре, правда, темной и зябкой, забыться сном на час-другой. Но я так сильно был измотан напряжением и страхом, а мальчик так успокоился и утешился, узнав о моем возвращении, что меня не беспокоили до послеполуденного часа, когда вновь стало смеркаться. Но было еще довольно света, чтобы я мог разглядеть его лицо, когда вошел к нему. Какая перемена всего только за две недели! Он был бледней и измученней, подумалось мне, чем даже в самые чудовищные дни перед отъездом из Индии. Как мне показалось, у него сильно отросли, стали мягче и тоньше волосы, глаза сверкали нестерпимым блеском на белом, как мел, лице. Он сильно стиснул мою руку холодными, дрожащими пальцами и махнул, чтоб нас оставили одних: «Уйдите все, даже матушка», — сказал он. Это резануло ее по сердцу, она вовсе не желала, чтобы кто-нибудь на свете, даже я, был ближе мальчику, чем мать; но она не из тех женщин, что пекутся лишь о себе, и мы остались вдвоем.
— Все вышли? — спросил он нетерпеливо. — Они не дают мне говорить. Доктор обходится со мной, как со слабоумным. Но вы же знаете, папенька, что я не слабоумный.
— Разумеется, мой мальчик, но ты болеешь, и тебе необходим покой. Ты не только не слабоумный, ты здравомыслящий человек, и понимаешь это сам. Больные люди вынуждены себя ограничивать, ты не можешь делать все то, что делал бы, будь ты здоров.
Он возмущенно дернул своей исхудалой рукой.
— Отец, я не болен, — вскричал он. — О, я думал, вы приедете, и уж кто-кто, а вы не станете затыкать мне рот, вы сразу догадаетесь, в чем дело. Как вы думаете, что со мною? Я не больнее вашего. Что взять с доктора, у него все больны. Он только поглядит и сразу укладывает человека в постель…
— Сейчас это самое подходящее место для тебя, мой милый мальчик.
— Я твердо решил, — вскричал мальчуган, — что буду все это терпеть до вашего приезда. Я говорил себе, не надо пугать маменьку и девочек. Так вот, отец, — кричал он, почти выпрыгнув из кровати, — дело не в болезни, а в тайне.
Глаза его блестели диким блеском, в лице было заметно сильное движение чувств, при виде чего у меня все внутри оборвалось, То явно было следствие горячки, которая порою так опасна. Я обнял его, чтоб уложить в постель.
— Роланд, сказал я, стараясь не противоречить ему, так как понимал, что иначе не смогу на него воздействовать. — Если ты намерен рассказать мне эту тайну для пользы дела, то должен сохранять спокойствие и не волноваться. Если ты снова разволнуешься, я буду вынужден запретить все разговоры.
— Хорошо, отец, — сказал он совершенно твердо, по-мужски, как если бы все понял. Когда я вновь водворил его на подушки, он поглядел на меня тем нежным, благодарным взглядом больного ребенка, от которого щемит родительское сердце. Он был так слаб, что на глазах у него выступили слезы. — Я знал, стоит только вам приехать, и вы поймете, что надо делать, — сказал он.
Нимало в том не сомневайся, мой мальчик. А теперь успокойся и расскажи мне все как мужчина мужчине.
Мог ли я думать когда-нибудь, что должен буду притворяться перед собственным ребенком? Ведь я это сказал лишь для поблажки, считая, что мой бедный мальчик повредился в рассудке.
— Так вот, отец, там, в парке, есть кто-то, с кем очень плохо обращаются.
— Тише, милый. Помни, тебе нельзя волноваться. Так кто же этот «кто-то», и кто с ним плохо обращается? Мы вскоре положим этому конец.
— Ах, это вовсе не так просто, как вы думаете. Не знаю, кто это. Я слышал только плач. О, если б вы знали! Я слышал это ясно, очень ясно, а они думают, что я брежу или, может, мне чудится, — и на губах у Роланда заиграла презрительная усмешка.
Выражение его лица озадачило меня, нет, то была не просто лихорадка:
— Ты совершенно убежден, Роланд, что тебе это не почудилось?
— Почудилось? Такое? — он вновь вскочил, но тотчас вспомнил, что не должен делать это, и улегся под одеяло с той же игравшей на губах улыбкой. — Пони тоже это слышал. Он встал на дыбы, будто в него выстрелили. Не схватись я за поводья — я ведь перепугался, папенька…
— Тут нечего стыдиться, мой мальчик, — сказал я, сам не зная почему.
— Если бы я не вцепился в гриву, он бы перебросил меня через голову, он так летел — до самых дверей не сделал ни единого вдоха. Что ж, пони это тоже почудилось? — произнес он презрительно, но более мягко, явно снисходя к моему неразумию, и медленно прибавил:
— Вначале то был лишь крик, и так все время до вашего отъезда. Я не стал вам говорить, потому что это очень унизительно — бояться. Я было решил, что это заяц или кролик, попавшийся в ловушку. Утром я пошел посмотреть и ничего не обнаружил. Но после вашего отъезда услыхал это по-настоящему, и вот, это он говорил (Роланд оперся на локоть, что был ко мне поближе, и заглянул в лицо): «О, матушка, впустите меня! О, матушка, впустите меня!»