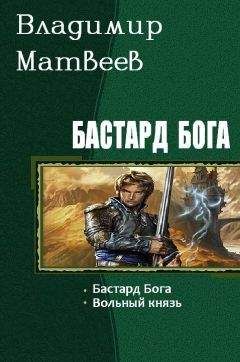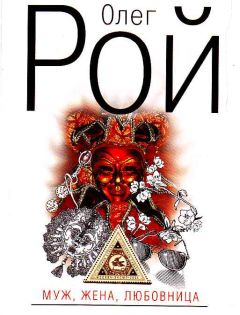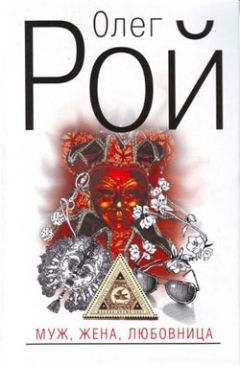Эвелин Беркман - Случайный спутник
— Будь я проклят, — пробормотал Тревор почти про себя. — Будь я проклят… — И оценивающе взглянул на надгробие. — Не хочешь ли ты сказать, что пыталась поднять это сама? Не уж умно — для такой-то умницы. — Нагнулся было за вторым ломом, но помедлил. — Как бы тут не было ловушки…
— Ловушки?
— Ну, ты знаешь — какого-нибудь колющего-режущего механизма, который срабатывает, как только откроешь крышку, нет, пожалуй, нет. — Он еще раз, внимательней, осмотрел надгробие. — 1720 год. Поздновато для таких штучек. Снова наклонился за ломом. — У тебя есть клинья, я вижу. Молодчина. Будь наготове, когда поднимется крышка, — предупредил он и опытной рукой взялся за дело.
Марта затаила дыхание, когда крышка с бронзовой красавицей приподнялась, и показалась длинная черная щель.
Через десять минут он выпрямился и отставил лом. Они славно поработали. Клинья были маловаты, их недоставало, но в любом случае стена не позволяла открыть крышку шире. Теперь между нею и гробницей зияла полоса черноты примерно с фут шириной.
Они постояли, думая об одном и том же, глядя друг на друга. — Давай, сказал Тревор и указал на отверстие, будто пропуская в дверь. — Это — твое. Твоя находка. — И протянул фонарик.
Она дрожащими пальцами торопливо включила его, просунула руку с ним под плиту, но опустить туда голову не решилась — и не из страха перед нависающей массой мрамора и металла. Нарушение покоя умерших, пусть даже очень давно умерших, пробуждает в каждом из нас первобытные, древние страхи, и Марта почувствовала внезапное отвращение к тому, что собиралась сделать. Кроме того, из мраморной коробки исходил слабый запах склепа — не тлена, но тени тлена, субстанции так давно запертой, что она уже почти испарилась. Но и в этом, едва заметном душке таилось нечто глубоко омерзительное.
— Ну же, — нетерпеливо повторил Тревор, не сводя с нее глаз. — Или не хочешь? Может быть, я?
— Нет-нет, — быстро сказала Марта. Как бы ни билось сердце, это ее, ее открытие. — Я сама. — Собралась с духом, поборола себя, сунула голову под плиту, в прохладную скверну разукрашенной мраморной коробки, и посмотрела вниз.
Глаза человека, лежащего там без гроба, но на чужом гробу, ответили на ее взгляд.
— Что там? — нетерпеливо, раз за разом спрашивал Тревор, а она молчала и не шевелилась.
Потом, как во сне, вынула голову из-под крышки.
— Что… — начал он было снова, но она слабым жестом велела посмотреть самому.
Он подчинился, вынув фонарь из ее вялой ладони.
И сам, уже под крышкой, долго, ошеломленно молчал, потом вылез, выпрямился, но, в отличие от Марты, быстро оправился. Передал ей фонарь, деловито измерил взглядом отверстие, снова просунул в него руки и голову. В неловкой позе, напрягая плечи и спину, наклонился пониже.
Через несколько мгновений, вывернувшись, вынул сначала голову, а потом, чрезвычайно осторожно, на вытянутых руках вынес из отверстой мраморной пасти того, кому принадлежал взгляд, так поразивший Марту. Тревор бережно уложил его пол, и по тому, как он обращался с телом, было ясно, что оно невесомое, как кукла из папье-маше или картона.
— Ростовщик, — произнес Тревор, и она кивнула, не в силах оторвать от него глаз.
В момент своей гибели это был человек умеренного сложения, приблизительно сорока с небольшим лет. Кожа его задубилась и ссохлась, как пергамент, так что черты лица вполне сохранились, и по ним можно было прочесть характер, опасливый, осторожный, даже трусливый. Лоб его был высок, не слегка крючковат, рот и щеки сокрыты черной, курчавой легкой проседью бородой. Довольно длинная, дюймов в семь борода прядями ложилась на грудь, волосы, тоже тронутые сединой, доставали до плеч. Глаза, встретившие взгляд Марты сейчас исчезали, буквально испарялись, превращаясь в две печальные черные дыры. Он был одет так, как одевались торговцы тех времен: в кафтан и панталоны до колен из грубой темно-коричневой шерсти, под кафтаном — черный жилет, длинные черные шерстяные чулки. На одной ноге еще держался не уклюжий башмак с потемневшей, видимо, оловянной, пряжкой; другой башмак он потерял. У кистей рук виднелись оборки пожелтевшего полотна, без кружев, и под бородой — такой же жабо. Он надел все свое самое лучшее, по его скромным понятиям, для разговора с де Маньи, конюшим его патрона и покровителя, и в том же наряде был брошен в эту могилу, на гроб ее законной хозяйки. Это был последний дар мужа, его последняя, обращенная к Шарлотте шутка, ее последний сожитель…
Глава 18
От мыслей об изощренной мести принца Марту отвлекло еще одно обстоятельство. Нигде: ни на теле Якова, ни на его одежде, ни даже на светлых оборках рубахи — не было старых пятен крови.
— Что они с ним сделали? — пробормотала она.
— Что?.. А! — Тревор встал на колени и перевернул тело. На затылке ясно виднелась глубокая вмятина размером с раздавленное яйцо. Они помолчали, и Тревор снова перевернул тело лицом вверх.
— Он должен быть в специальном кармане, — проговорил Тревор, — или в мешочке на шее. — И Марта снова подумала, что он знает о таких вещах не меньше ее, а может, и больше. — Ну, давай попробуем. — Он осторожно просунул пальцы под воротник Якова. Марту покоробило, но она переборола себя: уж слишком давно то, что лежало на полу, перестало быть человеком. Но все-таки это зрелище — обыск покойника — неприятно накладывалось на воодушевление удачи, и ей стало не по себе.
— Вот он, — почти сразу сказал Тревор, тихонько, но неумолимо вытягивая тесемку. Тут борода Якова шевельнулась, как живая, указывая, что предмет на конце тесемки пополз вверх, потом он зацепился за что-то, и Тревору пришлось расстегнуть жилет и засунуть руку под рубаху, чтобы освободить его. Борода на мгновение приподнялась, и Марта увидела ворот полотняной рубахи, окольцовывавший сухую, бесплотную шею. — Вот, — он потянул вверх и в сторону и вытащил из-под воротника маленький темный мешочек — кажется, кожаный, затянутый шнурком. Марта ждала, что он снимет тесемку с шеи, но Тревор осторожно положил его на грудь Якова, прямо на пряди бороды, и мешочек улегся там, подобно кулону на цепочке. И, спрашивая себя, почему он это сделал, Марта заметила вдруг, слегка удивившись, что его трясет, как в лихорадке.
— Ты — Тревор отстранился и встал на ноги, отдавая ей, как и раньше, право первенства.
— Нет, ты, — мотнула головой Марта. Тогда он снова опустился на колени и склонился над телом. Движения его внезапно стали порывистыми — он еле сдерживал нетерпение. Когда попытка расширить отверстие мешочка не удалась, он яростно рванул шнур. Но усилия были излишни — старая кожа под пальцами расползлась, открыв небольшое нечто, завернутое в кусочек ткани, шелка или полотна — не понять. И чуть только Тревор коснулся ее пальцем, ткань рассыпалась в прах… Тут Тревор вновь поднялся с колен. В молчании смотрели они на камень. Драгоценность, и впрямь нетленная, как говаривал мистер Брезертон, лежала на останках бренной плоти Якова, на прядях его волос. Это был кабошон приблизительно в дюйм длиной, формой очень похожий на огромную каплю крови, полированный, абсолютно симметричный в своем нагом совершенстве, нагом, ибо лишен оправы. Он лежал, сияя и посверкивая, как бы празднуя освобождение из долгой тьмы, и был какого-то трудно определимого оттенка густого светло-вишневого, местами сливово-красного, мягкого тона, но яркий. Свет пульсировал в нем, и казалось, что он дышит. Его маленькое и словно живое тельце хранило в себе пучину огня, в которой можно было утонуть с головой, и светилась в его глубине, как удачно заметил 250 лет назад Джон Харрингтон, слеза, причем не радужным блеском алмаза, а розовым, ярким блеском, много светлее цвета самого камня. Это был не просто рубин редкой красоты. Это было нечто завораживающее, единой венное в своем роде чудо, которое просто не с чем сравнить, потому что нет ему в мире никакого подобия.