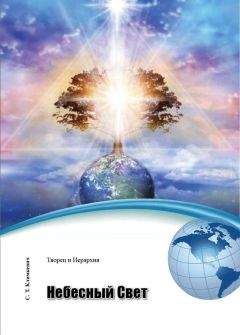Светлана Полякова - Агни Парфене
Сейчас она не стала вспоминать о том, что ей показалось странным, что рекомендовали ей именно этого человека, — во-первых, странным было уже то, что сама ее подруга наотрез отказалась быть посредником, а этот Борис Георгиевич тоже отказался принять от нее «товар», пробормотал в объяснение, что ему сейчас не до этого, а во-вторых — именно этот человек в ее воображении не связан был с антиквариатом, и особенно — с иконами. Она не могла забыть, что он позиционировал себя как любитель авангарда, модернизма и — свободолюбивый демократ и атеист.
Видимо, взгляды его были так широки, что вмещали в себя самые разные пространства. Да и то, что они с ее подругой, поклонницей старины, находились, как оказалось, в самых дружественных отношениях, — Викторию удивляло.
— Боря звонил мне, — кивнул он. И, протянув руку, добавил с тихим вздохом: — Ну, давайте посмотрим…
Ей было неудобно, что она отрывает его от наверняка важных дел. Куда более важных, чем ее желание продать ему эту икону-мощевик. Куда более важных, чем ее стремление выздороветь, выжить.
Она тут же достала из пакета сверток и, чувствуя себя школьницей на экзамене по истории, протянула ему — так поспешно и так стыдливо убирая взгляд, что можно было подумать, что этот ковчег был украден ею из Эрмитажа, а не перешел ей по наследству от мужа, которому достался неизвестным образом. Рассказов почему-то избегал вспоминать эту историю и на все ее вопросы только отмахивался — не ее дело… Хотя она помнила, как икона появилась, каким он был в ту пору мрачным, задумчивым и нервным, и — именно в это время он начал пить.
Может быть, по этой причине, из-за неприятных, тягостных воспоминаний Виктория Валериановна даже не переживала, когда пришел момент расставания с ней.
Он осторожно раскрыл ткань, которой была прикрыта драгоценность, и — замер в удивлении, подняв на нее глаза. Потом снова опустил, провел пальцем по поверхности, — она видела, что он поражен, он в восторге, он не может говорить. «Как странно», — подумала она. Похоже, он действительно большой поклонник этих штук. Куда больший, чем ему хотелось бы показать…
Сначала он смотрел на крышку ковчега очень внимательно, приблизив почти вплотную к глазам, сощурившись, потом не выдержал, открыл один из ящиков секретера, достал лупу.
На крышке серебряного ковчега были изображены Распятие и Воскресение. Он открыл крышку, осторожно, стараясь не дышать, и замер.
Внутри находилась золотая, чеканная икона. В самой середине был вставлен заключенный в драгоценную оправу крест, над которым парили два ангела, а с обеих сторон — склонив головы, стояли две женские фигурки. Он пригляделся и прочитал, что это — святая Гликерия. Одна — святая Гликерия Новгородская, вторая же фигурка, судя по всему, принадлежала Гликерии-мученице.
Икона была такой красивой, что захватывало дух, и он понял — он купит ее, непременно купит и… не отдаст ее. Он оставит себе это чудо.
— Сколько вы хотите? — спросил он, стараясь не показывать виду, что взволнован.
Она снова покраснела — его немного веселила и в то же время раздражала в этой взрослой женщине способность вот так, моментально, смущаться.
— Понимаете, — начала она робко и точно стыдясь, — я… очень больна, и мне сказали, что меня могут вылечить только в Германии, но нужны деньги… Я никогда бы не рассталась… Но…
Она окончательно потерялась. Ему стало жалко ее.
— Чаю хотите? — предложил он. — И… вот что. Давайте перейдем в кабинет. Там нам будет проще и уютнее разговаривать. Да не смущайтесь, я понимаю, что вы оказались в затруднении. Я сам могу оценить этот ковчег, но мне было бы любопытно узнать, сколько хотите получить вы.
Он поднялся, не дожидаясь ее ответа, протягивая ей ковчег — с некоторым недовольством, как будто уже привыкнув к мысли, что эта вещица будет — его.
Она приняла ее в руки, пролепетала:
— Да, конечно, чай — это замечательно, да…
Там, в кабинете, она, потрясенная обилием старинных фолиантов и икон, осмелев после нескольких глотков замечательного красного чая, дерзнула заметить:
— Признаться, я не ожидала от вас такого интереса к… иконам. Вы же атеист? Убежденный, насколько я поняла?
— Я антиклерикал, — пожал он плечами. — Но начал собирать эту коллекцию еще мой покойный отец. Я просто продолжаю. Хотя не скрою, что мне это интересно.
— Но говорят, недавно на вашей выставке какой-то художник призывал публику освободиться от ложных иллюзий, порубил на куски старинную икону… Кажется, был скандал. И… Впрочем, извините. Я влезаю не в свое дело.
— Нет, почему. Скандал действительно вышел, и неприятный. Икона оказалась краденной из сельской церкви, но сам художник был тут ни при чем — он ее купил.
— Но разве вам, увлеченному древнерусским искусством, это было не странно наблюдать?
— Как вам объяснить… Я разделяю искусство и предметы культа. Ту икону произведением искусства назвать было сложно. Обыкновенная доска с нелепой, пусть трогательной, мазней. Я не собираюсь стонать и закатывать глаза в восхищении только на том основании, что икона датирована девятнадцатым веком. И в девятнадцатом веке не все художники отличались талантом. Но оставим эту тему. Так сколько вы хотели бы за нее получить?
— Пятнадцать тысяч евро, — снова смутившись, проговорила она так тихо, что ему пришлось переспросить.
Кажется, она истолковала его неправильно.
— Там одних драгоценностей только на эту сумму…
Он едва заметно усмехнулся. Не такая уж и глупая эта гусыня. Она назвала сумму, намного превышающую ожидаемую. И дело тут не в драгоценностях этих — черт бы с ними, тут дело в другом.
Но истинной цены она все равно не знает.
Насколько ему было известно, в мире существовало только одно изображение святой Гликерии. В ковчеге-мощевике, который хранился в Оружейной палате Кремля. И он чуть не отдал ей в три раза больше, думая при этом, что мог бы получить еще больше, если б… он захотел расстаться с этим раритетом. Но он не хотел. По крайней мере — пока.
В этом было дело, но — разве это объяснишь этой глупенькой стареющей барышне?
— Я дам вам за нее двадцать тысяч евро, — сказал он. — Потому что вам нужны деньги.
Она вскинула на него глаза, полные слез и благодарности, и он понял — она почти влюблена в него, она считает его верхом благородства и доброты, и от всего этого было противно и скучно.
И почему-то от самого себя было скучно и противно.
— Спасибо, — пролепетала она.
Он был так тошнотворно добр, что даже вызвал и оплатил ей такси. На самом же деле ему просто не терпелось остаться одному, и, когда он наконец обрел вожделенное уединение, он сначала долго смотрел на нее, улыбался, потом встал, прошел к стеллажам, на которых стояли тома «Житий святых», конечно же старинные, букинистические, настоящие, открыл нужный том и прочитал: