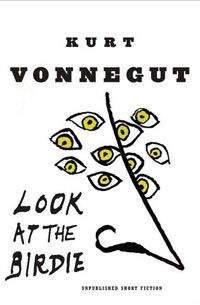Анатолий Радов - Вниз по реке (Сборник рассказов)
Блуждая среди высоких деревьев, я дотрагивался до их стволов, пытаясь хоть как-то выразить свою благодарность, а они добродушно шумели листвой, как будто им был понятен язык моих прикосновений, и они читали на нём мою искренность и свободно летящее сердце.
Я и не заметил, как ушёл глубоко в лес и в себя, не заметил, как потемнело вокруг, и где-то вдалеке прокатился первый рык перенасыщенного водой, словно хищнической злостью, неба, и обратил внимание на мир только когда крупные капли застучали по листве, погрузив всё в бездонное озеро шума. Помятуя об опасности простудиться, что мне совершенно нельзя было делать с моими лёгкими, я встал под высокой лиственницей, ствол которой был густо покрыт тёмнозелёным, пахучим мхом, но вода всё равно дотянулась до меня, не смотря на густой зонт кроны. И тогда, я увидел необъятный, и видимо очень старый дуб, который медленно умирал, выгнивая изнутри, отчего в стволе образовалось крупное дупло. Я спешно перебежал от лиственницы к умирающему гиганту и залез внутрь него, удобно устроившись на мягкой трухе, устлавшей дно дупла, и в меня вошло такое спокойствие, такая защищённость и лёгкое отношение ко всему происходящему, что я невольно улыбнулся, и зевнув, блаженно потянулся, с какой-то неизбежностью почувствовав себя плодом в чреве матери.
И это чувство, насытив меня за несколько мгновений счастьем, тут же исчезло, уступив место настойчивому ощущению смерти, исходящему от гниющего дерева. Но это ощущение не было человеческим, хотя я и не знал каким оно бывает — это человеческое, но был уверен, что здесь совсем другое, что-то совсем без страха и угрызений, спокойное и рациональное, как понимание неизбежного и мудрое смирение перед ним. Потому я и был удивлён, что видя смерть так близко, и даже находясь в её руках, я воспринимал её так же, как воспринимал до этого ежевечерний закат солнца, и задумавшись, я понял, что я уже не есть человек, с его страхами и переживаниями, а полностью уже дерево, и всё, что я теперь чувствую и понимаю, это всё производные моей новой сущности.
Так я потерял в себе человека и обрёл дерево. Превращение нисколько не поразило и не огорчило меня, я отнёсся к нему даже с неким удовольствием, и я думаю, что поспособствовало этому первым делом полное исчезновение страха смерти, которое без преувеличения преследовало меня постоянно, когда я был человеком. Я не раз задумывался о самом моменте смерти, о том, больно ли это, и сохранишь ли ты способность мыслить, когда твоё сердце уже остановится? Я ясно представлял себе своё тело, покрытое пятнами гниения, и тогда единственным чувством к себе, у меня оставалось омерзение. Господи, думал я, ты же сказал, что после смерти мы обратимся в прах, но ведь ты ничего не сказал про то, как мы будем гнить. Ты не сказал, что наше лицо будут проедать черви, исходящие слюной аппетита, что они будут выгрызать в мясе тоннели ведущие к нашему мозгу, их излюбленному лакомству. Ты забыл об этом сказать, Господи?
Но и ощущение смерти наконец-то покинуло меня, и я стал блаженно радоваться дождю. Я представил дождь, как полноводную реку, по которой я плыву куда-то далеко и мне наплевать куда, я ведь знаю, что мне всё равно не покинуть русла этой реки, и в любой случае я приплыву только туда, куда принесёт меня течение. И эта новая мудрость настолько успокоила меня, настолько очистила от всего наносного, что я весь мир вокруг себя увидел, как огромный океан, в который стекаются все существующие реки, в котором теряются все начала и концы, все рождения и смерти, и в котором каждая капля, сама огромный океан. Это было настоящим счастьем, и я ощутил, что я не один испытываю его, что всё вокруг тоже видит Вселенский океан, и я стал шептать о счастье, я стал шептать каждым листком оставшимся на моей сохнущей, старческой кроне.
Но в какой-то момент, переполненный счастьем, я вздрогнул и открыл глаза, и тяжесть человеческой сущности, человеческой судьбы — всегда помнить о неизбежности смерти, всегда чувствовать своё гниение в одиночестве, надавила на мои плечи, согнула их, предав моему телу привычный вид и я, перекрывая шум дождя, закричал от ужаса, как ребёнок, только что появившийся на свет.
Сжавшись в комок, я просидел внутри дуба пока не кончился дождь, и лишь затем, тяжело ступая по мягкой земле, подскальзываясь на грязи и с трудом удерживая равновесие, я выбрался обратно в город, навсегда подавленный той разницей ощущения жизни, которая теперь никогда не сотрётся из моей памяти, и будет напоминать о себе смутной тоской. Я был похож на только что уколовшегося в первый раз, но уже пропащего наркомана, который познав сладость наркотического опьянения, обречённо понимал, что вся его жизнь, от этого момента до самой смерти, навеки будет принадлежать новым ощущениям.
И в этом состоянии я вернулся к своим книгам, к своим пыльным будням, а то что осталось позади, далеко за спиною, в наполненном жизненными силами лесу, стало ощущаться мною, как призрачный праздник, на котором мне удалось невероятным образом поприсутствовать.
…деревом(долго)
И как мне было забыть обо всём этом? Как оттолкнуть от себя?
Ворочаясь в душной постели, вопреки утомительной, и в то же время освежающей прогулке, я всё никак не мог уснуть, размышляя о том, что за новый опыт преобрёл я? Что за океан увидел я, в котором сходятся все лучи жизни, и из него же исходят обратно во тьму, побеждая страх смерти?
И в таком разгорячённом виде, я дождался рассвета, так и не сомкнув глаз, бре?дя под утро единственной мыслью — вернуться к гибнущему дереву, и ещё раз побыть им.
Я поднялся, и в утреннем полумраке взглянул на полку с книгами, бывшими ещё вчера моим единственным выходом отсюда, из этого замкнутого пространства никчёмного существования. Улыбка превосходства бесцеремонно коснулась моих губ, словно садящаяся на некрасивый цветок изумительная бабочка. Что вы мне теперь? — спросил я молча. Разве только память — тут же отыскался ответ.
И я заспешил к лесу, как другие спешат на свидание, или в кассу на работе, или может к врачу, когда им совсем плохо. Возможно — врач — это самое правильное, что может приходить в мозг при мысле о деревьях, но и свидание не лишено своего места в этих размышлениях. Я спешил на свидание со своим врачевателем, умирающим, но относящимся к смерти так, как умеют лишь единицы среди нас, людей, да и то лишь укутывая разум в защитный туман иллюзии. Но умирающий дуб отвергал любую иллюзию, смотря на смерть открыто и спокойно, как солнце смотрит каждый день на землю, чуть свысока, но не заносчиво. И ведь я знал это, знал, как знает сам дуб, не с чужых слов, а из прожитого кусочка бытия.