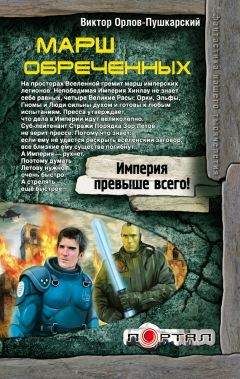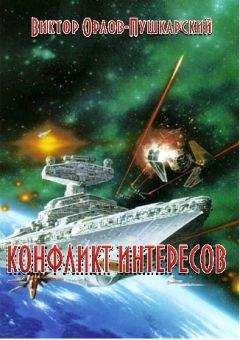Юрий Косоломов - ХОДЫНКА
Предчувствие никогда не обманывало Максимова, еще ни разу в жизни не обмануло. И сейчас оно говорило ему: быть беде. От черта крестом, от медведя пестом, а от дурака ничем не оборониться. И там, где дураков собралась такая прорва, дурь их сама по себе не уйдет. Видал Максимов, и не раз, задавленных - да хоть в любой почти крестный ход, али на встрече чудотворной, где сами же калеки, сирые и убогие давят друг дружку, потому что боли уже не чувствуют, - так их жизнь отделала!
В таких тяжких случаях Максимов привык искать что-нибудь отрадное, не то давно уже пропал бы, как многие, предавшиеся греху уныния. Да по совести, не многие, а все почти его ровесники, из которых мало кто и до тридцати доживал.
Нашел отраду Максимов и сейчас. Как ни заискивали перед ним артельщики, он все же был человек маленький, отвечал всего лишь за гостинцы, и больше ни за что. А вот начальству придется несладко. Хотя вины начальства перед Богом, может, и нет вовсе. Народ-то ошалел! Давно ли в деревнях своих с голоду пухли, а нынче в Москве каждый голодранец булки белые ест! Диво ли, что им большего захотелось?
Но, по правде сказать, многого в начальственных мыслях Максимов понять никак не мог. Разве что самим чином начальственным да богатством эта особость мечтательная и объяснялась. Вот он, маленький человек, знал, что с прошлой коронации народа в Москве стало вдвое больше. Он это каждый день собственной шкурой чувствовал. По тесноте на Мясницкой и гвалту базарному убеждался. По тому, как денег в Москве много стало, а товара дешевого не стало совсем.
Да и чугунок таких раньше не было, по которым народа приехать может видимо-невидимо, только помани. Не вдвое, а в двадцать раз больше прежнего - и всё за день-другой. Но этого начальство разве могло не знать? Почему же тогда буфетов не в двадцать раз больше поставили? И даже не в два? Поскупились? Почему вовсе не отменили угощенье, раз понятно (не может быть, чтоб одному ему, Максимову, это было понятно), что на всех не хватит, и что давиться из-за этого народ будет?
Что ж выходит? Знали, а все ж таки сделали, как сделали. Значит, так и надо. И не его мужицкого ума это дело - господские загадки разгадывать. Может, и над теми господа поважнее есть, да эти, ближние, того не знают. Не ведают, что их руками расправу учинить решили... Вот только зачем? Бог их знает... Только Максимов, мужик весьма грамотный, читал в книжках, как такие же вот благородные господа рубили, случалось, самодержцам своим головы... Ладно... Он, Максимов, с какого боку ни глянь, ни в чем не виноват. Ни перед царем, ни перед Богом!
Максимов уже твердо знал, что не было на свете силы, способной остановить беду. Оставалось лишь делать свое дело до конца. Но послушать начальство Максимов всегда был готов. Он знал, что начальство, если оно хотя бы раз до заката успело увидеть толпу, настроено сейчас примерно так же, как и толпа. Начальство тоже мечтает о чуде, только о своем. И поэтому хватается за соломинки, в том числе и за такие, как староста Чижовской биржевой артели. Максимов вздохнул, перекрестился и зашагал к царскому павильону.
* * *Официант или, по-старому, половой, переставил с подноса на стол графин, тарелки и замер в выжидательной позе. Полковник Власовский жестом не то отпустил, не то прогнал его. На мгновение дверь открылась и послышался шум зала. Но вот снова наступила тишина.
В кабинете стало тесно и темно, как в чулане с ненужными вещами. С потолка отдельного кабинета спускалась лампа, а под ней был светлый круг размером ровно со стол - большего и не требовалось.
Власовский наполнил рюмку, поднял и, затаив дух, опрокинул коньяк в рот. Горячий поток хлынул в недра полковничьей плоти и, описав фигуру, похожую на перевернутый вопросительный знак, перешел в спокойный и торжественный прилив радости. Гримаса отвращения сошла с маленького, невзрачного личика Власовского. Полковник разгладил усы и вздохнул. Полегчало.
Из зала снова донеслись приглушенные звуки - запел хор; голос цыганки выступил соло и принялся точить вековечные свои слезы. Власовский отщипнул и кинул в рот виноградину, одобрительно покивал. Музыку он не любил, но полную тишину не любил еще больше, потому что от нее в ушах начинали не то что раздаваться, но как-то назойливо приходить на память звуки, обычные для минувшего дня, как и для дня грядущего, впрочем, тоже: стук копыт по булыжной мостовой, крики "Смирно!", плач и крики арестованных, обворованных, избитых, стук телеграфа в секретарском кабинете, звон телефонных чашек, электрический зуммер, которым полковник вызывал запасного рядового Лукашева, своего камердинера, пьяный рев, но прежде всего - глухие голоса, сливавшихся в сплошное "Сволочь! Сволочь! Сволочь!"
Вслед за звуками в тишине начинали вспоминаться и запахи, ощущать которые наяву полковник почти разучился, как перестал он ощущать и вкус еды. Про звуки полковник никому на рассказывал, ибо понимал, что это дело политическое, - тем более, что звучать они в последнее время стали все громче, и к ним стал добавляться шум пронунциаменто - гул набата, противудинастические клики и ропот фабричных, - которого полковник наяву уж никогда не слыхал. Что же до запахов и вкуса, то врач как-то велел ему на пару недель отказаться от спиртного, соленого и острого. Но Власовский от своих привычек отступаться не торопился. Их и без того было немного: носиться по делам службы, сидеть в "Яре" и спать. Обычно полковник спал не дома, а в рабочем кабинете, сидя за столом и не раздеваясь, по три-четыре часа в ночь. Время от времени он к тому же просыпался, чтобы полистать "паскудку" - свою знаменитую записную книжку, в которой умещались ежедневно пополняемые досье на каждого полицейского, извозчика, дворника и домовладельца Москвы. Где ж еще, как не на службе, и можно было так долго и блестяще выдавать за добродетель свой порок, обычный равно и среди гениев, и среди прирожденных палачей, - ограниченную потребность во сне!
Нижнюю часть огромного, во всю стену, окна закрывали шторы, через верхнюю виднелось темневшее небо. Полковник покосился на луну, медленно тонувшую в черной туче, взял вилку с ножом и придвинул к себе блюдо, на котором только что перестал шипеть жир, отрезал кусок сочного, с кровью, мяса, налил еще коньяку и еще выпил, и вот теперь закусил. Власовский, наконец, разобрал слова песни, доносившейся из зала, и, продолжая жевать, замурлыкал:
- Матушка, матушка, что во поле пыльно...
- Странно, полковник, - раздался в темноте низкий, хорошо поставленный голос. - Сколько ваши песни ни слышал, вы одни только женские партии исполняете.
В светлый круг протянулась рука. Она взяла с тарелки Власовского метелку сельдерея и тут же исчезла.