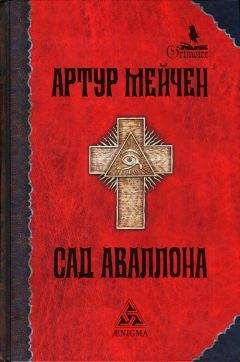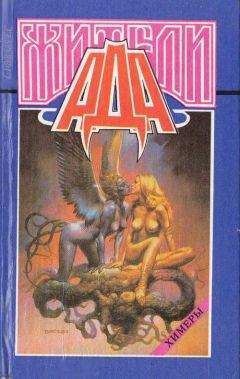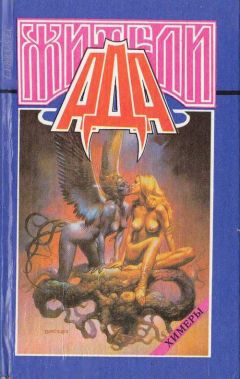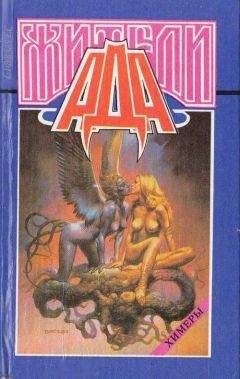Артур Мейчен - Холм грез
— Ах, какой прелестный старик!
— Как мило с его стороны, ведь это столько хлопот!
— Какое у него доброе выражение лица!
— Просто душечка!
— Доброе старое дворянство!
— Подлинный британский аристократ!
— И строгих правил к тому же. Если кто из служанок попадет в беду, тут же рассчитает!
— Опора церкви!
— Он распоряжается местами в двадцати приходах!
— Он голосовал за закон об Ограничении публично отправляемых обрядов!
— Десять тысяч акров и ни пенни долгу!
Старый аристократ сально ухмылялся, бормоча себе под нос что-то типа: «Ага, тут есть хорошенькие девчонки. Та рыбонька в розовой шляпке совсем не плоха. Надо к ней присмотреться. Пожалуй, она даст фору самой Лотте».
Процессия медленно продвигалась вперед, сминая траву. Архидиакон ухватил за рукав мистера Диксона, и «подлинные британские аристократы» углубились в разговор о прегрешениях какого-то деревенского пастыря.
— Я едва могу в это поверить, — сказал мистер Диксон.
— Уверяю вас, тут не может быть никаких сомнений. Множество свидетелей. Он устроил процессию в Лланфианделе в воскресенье перед Пасхой и сам вместе с певчими обошел вокруг церкви, держа в руках ветку вербы.
— Какое неприличие!
— Епископ был так огорчен! Конечно, Мартин много работает и все такое прочее, но это уж слишком. Сколько раз епископ говорил мне, что решительно выступает против процессий.
— Епископ прав, совершенно прав. Процессии противоречат духу Писания.
— Сами знаете, Диксон, — стоит только начать.
— Совершенно верно: я стараюсь не допускать ничего подобного в моем приходе.
— Вот именно. Такие вещи надо душить в зародыше. Мартин так непочтителен. Надо все-таки соблюдать приличия.
Процессия, соответствующая «духу Писания» и возглавляемая лордом Бимисом, тем временем достигла киосков и павильонов, и лорд Бимис объявил ярмарку открытой. Луциан сидел чуть поодаль на садовой скамейке, закрыв глаза и думая о своем. Он видел только мух — целый рой жирных мух, гудевших и хлопотавших над куском гнилого мяса, валявшегося на траве. Это зрелище никак не могло потревожить гармонию его снов, а сразу же после открытия ярмарки он поднялся и потихоньку побрел прочь, через поля, к пещерам, которые хотел изучить в тот день.
Обитатели Каэрмаена немало удивились бы, узнав подлинную цель его прогулок по городу и окрестным холмам: Луциан понемногу, но неуклонно стирал с лица земли современные прямоугольные жилища, отстраивая полный блеска и славы град силуров, предназначенный для услад возлюбленной и его самого, мистический город с роскошными виллами, тенистыми садами, колдовским ритмом мозаичных полов, плотными дорогими шторами, испещренными таинственным узором. Целыми днями Луциан бродил по залитым солнцем улицам, порой находя, убежище под сенью густых сумрачных вязов какого-нибудь сада, где он мог часами сидеть, прислушиваясь к ропоту и рокоту фонтана. Порою, выглянув из бойницы, он видел суету и пестрое мельтешение рынка или наблюдал, как входит в гавань корабль с тончайшим шелком и иными товарами неведомых стран на борту. Луциан нарисовал карту — причудливый и подробный план города, в котором собирался жить, где указал расположение и название каждой виллы. Он выравнивал линии своего плана с придирчивостью добросовестного землемера и в конце концов изучил его так, что мог бы свободно ориентироваться в своем городе даже в темную летнюю ночь. Луциан бродил по южному склону холма, где возле городской стены под неизменно теплым солнцем наливался соком виноград, а порою отваживался дойти до первых деревьев дикого леса, посреди которого все еще таились исконные древние жители этих мест. Там он вдыхал в себя золотое марево города — дрожащий и дробящийся на гладких каменных плитах свет. Перед воротами города раскинулись сады, и странные, чарующие цветы пьянили раскаленный воздух своим ароматом, пропитывали причудливыми запахами легкий ветерок, струившийся по улицам. Скучная современная жизнь отошла прочь от Луциана, и встречавшиеся ему в эти минуты люди замечали, что он был «малость не в себе»: самого невнимательного наблюдателя удивлял его рассеянный и вместе с тем пристальный взгляд. Но ни женщины, ни мужчины не могли больше задеть или отвлечь Луциана. Течение его мыслей не прерывалось ни на миг. Он выслушивал мистера Диксона с нарочитой сосредоточенностью, а в душе его звучала завораживающая мелодия сдвоенной флейты, и прекрасная девушка танцевала в садах Аваллона[33] — такое имя он выбрал себе. Мистер Диксон пожелал похвастаться перед ним своим знанием археологии и упомянул в разговоре о соображениях достопочтенного мистера Уиндема, изложенных на последнем заседании общества любителей древностей.
— Не может быть никакого сомнения в том, что именно здесь стоял храм Дианы во времена язычества, — заключил он.
Луциан выразил свое согласие и даже задал пару вопросов, вполне относившихся к делу. Но сдвоенная флейта все это время ласкала его слух, и раскидистый вяз отбрасывал густую пурпурную тень на мощенную белым камнем дорожку возле его виллы. Вот из сада вышел мальчик и зашагал вдоль рядов винограда, обрывая спелые гроздья — виноградный сок струился по его обнаженной груди. Мальчик остановился возле девушки и открыто, не стыдясь солнечного света, запел любовную песню Сапфо[34]. Голос его был глубок и богат, словно голос женщины, но при этом абсолютно лишен выражения — безупречный музыкальный инструмент, и только. Луциан пристально разглядывал мальчика, чье совершенное тело блестело на фоне темных роз и небесной синевы, словно яркий и сочный мрамор в сиянии солнечных лучей. Слова его песни обжигали пламенем страсти, но сам мальчик был равнодушен к их смыслу точно так же, как флейта — к мелодии. Девушка улыбнулась. Викарий пожал Луциану руку и пошел по своим делам, вполне удовлетворенный как собственными познаниями относительно храма Дианы, так и вежливым вниманием юноши.
— Нельзя сказать, что Луциан полный тупица, — сообщил мистер Диксон позднее своему семейству. — Он совершенно неотесан, но, пожалуй, вовсе не глуп.
— Ах, папа, ну разве он не дурачок? — откликнулась Генриетта. — Он же не может ни о чем разговаривать. То есть, я имею в виду, о чем-нибудь интересном. Говорят, будто бы он только и делает, что читает, но я своими ушами слышала, как он сказал, что ни разу в жизни не читал «Князя из Дома Давидова» и «Бен-Гура»[35]. Это же подумать только!
Викарий не мешал сыну. Солнце по-прежнему дарило розам свой свет, и легкий ветерок доносил до ноздрей Луциана их аромат, смешанный с запахом виноградных гроздьев и листвы. Луциан стал прихотлив и разборчив в своих ощущениях. Откинувшись на подушки, обтянутые блестящим золотистым шелком, он пытался распознать странный «привкус» в доносившихся до него запахах. Примитивные суждения того времени, сводившиеся к фразам вроде «Пахнет розами» или «Здесь где-то поблизости растет шиповник», остались далеко в прошлом. Он знал, что современное восприятие запахов ни в какое сравнение не идет с изощренностью дикарей и примитивных народов. Отсталые аборигены Австралии различали запахи с такой тонкостью и точностью, что колонизаторы только рты раскрывали в изумлении, но, с другой стороны, чувства дикаря были всецело подчинены соображениям пользы. Луциан же, расположившись в прохладном портике и касаясь стопами гладкого мрамора, мог вжиться в запахи и различить в воздухе переплетения и контрасты тончайших оттенков и ароматов, складывающихся в гармоничную симфонию. Пятнистый мрамор тротуара хранил воспоминание о прохладных горах Италии; кроваво-красные розы, изнемогая от жары, наполняли воздух ароматом таинственным и мощным, как сама любовь; густые испарения виноградника кружили голову. Охватившее девушку желание и невинность не созревшего еще отрока тоже казались Луциану отчетливо различимыми ароматами, изысканными и сладостными запахами мирры и бальзама, таявшими в воздухе так же легко и свободно, как благоухание роз. И все же какая-то странная примесь тревожила его обоняние, напоминая о терпких запахах леса. Наконец Луциан понял — этот запах шел от огромных рыжих сосен, росших за пределами сада. Их иглы разогрелись на солнце и дарили трудноуловимый летучий запах смолы, напоминающий фимиам, воскуряемый в отдаленном храме. Нежные заклинания флейты сливались с влажной и властной силой отроческого голоса, и Луциан задумался над тем, существует ли на самом деле различие между ощущениями слуха, зрения и обоняния. Глубокая синева неба, звуки песни, запахи сада — все это было лишь разными проявлениями одной-единственной тайны, а не самостоятельными сущностями. Он готов был поверить, что незрелость отрока и в самом деле является ароматом или что аромат дрожащих розовых лепестков превращается в благозвучное пение.