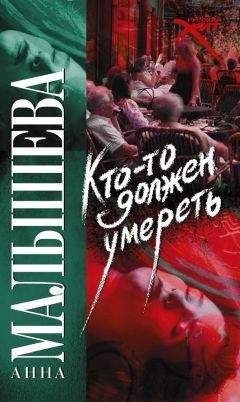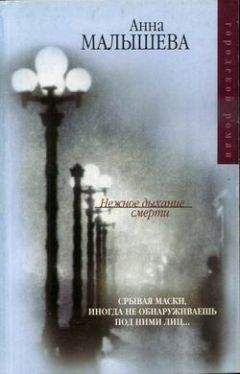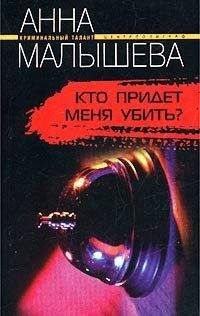Анна Малышева - Конкистадоры
Он обернулся, и я увидел на его сером лице улыбку.
– У меня, знаете, появилась еще одна идея, как облегчить себе задачу, – почти застенчиво сказал он. – Пересадить его на азбуку я, конечно, не могу… Но могу создать условия, при которых ему придется туда пересесть. Инстинкт самосохранения у него есть, я в этом уже убедился, – ведь сбежал он из затопленной камеры.
И Ральф поведал мне, что в случае крайней необходимости сожжет во дворе всю свою библиотеку. И не только ее – вообще все тексты, которые найдутся в доме, от записных книжек до рецептов Ренаты. Оставит только форзац из азбуки, и уж тогда… В этот миг я окончательно понял, что он безумен. Не знаю, какое у меня было лицо, когда я ответил, что это чересчур радикальная мера. И добавил, что в Праге меня ждут неотложные дела.
Я уехал после обеда. Рената буквально заставила меня задержаться и приготовила индейку. В машине обнаружился сверток с печеньем. Когда она успела собрать гостинец, я и не заметил. Погода установилась прекрасная, и к пяти часам я уже был дома.
В течение вечера я несколько раз подходил к телефону, чтобы набрать номер кого-нибудь из коллег, и каждый раз отменял решение. Может быть, Ральф одумается. Опомнится. Может быть, я просто не понял шутки, ведь это, конечно, был розыгрыш, он просто решил напугать меня, испытать мою впечатлительность. Если и нужно кому-то звонить, то это ему. И он засмеется, скажет, что дешево меня купил. Но прежде всего мне нужно немного поспать, выпить стопочку и поспать.
Я выпил водки, натянул пижаму и лег в постель. Рядом с кроватью стояла дорожная сумка, и я достал оттуда монографию о Гогене, которую всегда возил с собой. Эту книгу я мог читать с любого места, впрочем, как и любую другую. Глаза у меня уже слипались и, чтобы не утомляться, я стал рассматривать план столицы Таити 1890 года. № 13 – овощной и мясной рынок, № 14 – ресторан «Ренвойе», № 15 – дом лейтенанта Жено…
Я выронил книгу, она скатилась по животу и захлопнулась. Ощущение было такое, будто я получил две звонкие пощечины одновременно. Мне в тот миг хотелось только одного – снова оказаться за рулем и гнать, гнать машину, словно еще можно было убежать… Муравей спасся у меня в книге от пожара, как спасся в блокноте Ральфа от наводнения. А от чего мог спастись я?
…Секундомер, блокнот, карандаш, книга – любая. Чашка кофе. Я так и не позвонил Ральфу. Не вижу в этом необходимости. Ни за что не отдам муравья. Ральф мне тоже не звонит и не позвонит до тех пор, пока не догадается… Или пока не сожжет свою библиотеку. А может быть, он уже сжег ее в том деревенском дворе, под старыми яблонями, не слушая уговоров Ренаты, не обращая внимания на соседей, столпившихся за оградой… Но если он ее не сжег, как не сжег и я свою, его лабиринт, как и мой, бесконечен. Я не сожгу и не выброшу ни единой книги, я даже думать об этом боюсь, ведь тогда муравей найдет способ от меня сбежать.
Вечером я запираю квартиру, спускаюсь на улицу, сажусь в пивной напротив. Я там постоянный клиент. Барменша не спрашивает, какого пива налить, она знает сама. Со мной никогда никто не заговаривает. Наверное, я выгляжу странно – старый плащ, трясущиеся руки, пустой взгляд. Ничего, мне все равно. Я выпиваю свое пиво, смотрю в окно, вижу, что на улице сгущается туман. Ноябрь, сумерки, сырой воздух, размывающий огни фонарей. В моей квартире, в доме напротив, меня ждет муравей. И я к нему возвращаюсь, и открываю книгу за книгой.
Брат и сестра запирают дверь за дверью, роняя по дороге изумрудные клубки шерсти и французские романы, и мальчишка рыдает, швырнув в стену каюты дорогой трубкой, и сэр Джозеф Чемберлен говорит последнюю речь в Глазго, и его воротничок – словно крахмальный ангел, убитый запонкой; и Агата Рансибл невпопад взмахивает синим флажком гоночной машине № 13, и Гуттен через дверь пререкается с Лихорадкой, и раненый мужчина, лежа на спине, смотрит в небо, и директор галереи Буссо и Валладон снова отвечает Гогену «нет». Человек бросает в воды фьорда стальное кольцо, женщина раздевается в грязной каюте волжского парохода, и девочка с чахоточной грудью, перетянутой багряной шнуровкой, садится на маленького ослика, и толпа в Париже снова бьет газовые фонари. В Сан-Сусси читают Энциклопедию, рубят голову Доу Э, и к месту казни уже крадется человек с пончиком за пазухой. И наступает утро, и в осажденную Пизу входит женщина в черном плаще, ведя за руку Принчивалле с забинтованным лицом.
Я смотрю сквозь парады и похороны, крытые патио и гостиные, палубы пароходов, бильярдные и кладбища, морги и спальни, я слышу шелест страниц – тот же шелест, к которому совсем неподалеку от Праги, в деревне, прислушивается женщина, растапливающая на кухне кафельную печку. Женщина, к которой на полчаса зайдет Ральф, и темнота спальни задрожит от слез, которые не облегчают, и слов, которые не способны никого утешить. А потом он снова услышит шелест страниц, тот же, что слышу и я при свете лампы и при свете неба, при свете, который, я знаю, угаснет прежде, чем я закрою, наконец, книгу.
Господин де К. и ночной маскарад
Один день казнили, и улицы пахли парной кровью, голубой кровью, черневшей к вечеру. Старухи мочили в ней серые холщовые платки, чтобы потом исцелять чахотку у грудных младенцев.
Второй день возили, и мостовые прогибались под тяжестью мокрых телег, груженных нежными руками со следами от сорванных колец, слипшимися кружевами и париками – с головами или без.
Третий день украшали улицы и расклеивали афиши.
На четвертый день начался маскарад.
Господин де К. и первый, и второй, и третий день сидел у себя в комнате и ждал, когда за ним придут. На четвертый день он открыл окно, увидел женщин и детей, наряженных в награбленное тряпье, услышал музыку и изумленно посмотрел на небо. Он не мог поверить, что его оставили в покое. Но солнечный кошмар продолжался. Прямо напротив его окна, на фонарной цепи, медленно вращался повешенный с очень знакомым лицом.
Господин де К. выбрал свой лучший камзол, выправил тонкие кружевные манжеты, натянул нежные шелковые чулки. Он нарочно не желал рядиться в тряпье своего бежавшего слуги и долго прихорашивался перед зеркалом, будто готовясь к выходу короля.
Улица была полна народа. На него не обращали внимания. На любом прохожем красовались предметы роскоши. Одна дебелая девица напялила на свои красные ручищи коровницы кружевные перчатки и теперь несла руки немного впереди себя, опасаясь ими пошевелить, чтобы дорогая вещь не лопнула. Это были перчатки младшей дочери старого господина де Д., обезглавленного со всей семьей в первый же день. Они еще пахли старинной полированной мебелью семьи де Д., пылью с редких книг и немножко – клубничным соком на мизинчике. Другая, видимо, хватала, что под руку подвернется, и наконец стала похожа на тачку старьевщика, тем более что туалеты пожилой мадам де М. никогда не отличались особенным изяществом. Господина де К. то и дело мутило от запаха дорогих духов, мешавшихся со зловонием не переваренного лука и винной отрыжки. Внезапно впереди мелькнула спина его лучшего друга, господина де О. Тот пробирался сквозь толпу к дверям переполненного кабака. Сердце господина де К. неловко и сильно повернулось в груди. Он рванулся следом.