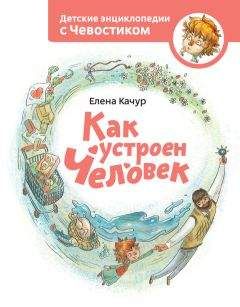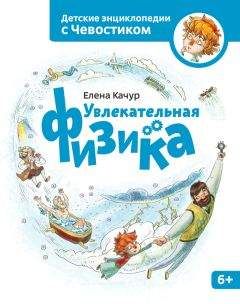Любимчик Эпохи. Комплект из 2 книг - Качур Катя
– Какая группа крови здесь проштампована, уебок? – набросился на Илью прапор в первый же вечер после трагедии и оторвал его нагрудный карман вместе с военным билетом. – Читай, гондон!
– Б-бэ м-минус, – не верил своим глазам Илюша.
– Это значит, третья группа, резус отрицательный! – Курбатов еще раз с размаха врезал по физиономии Родственника, кроша носовой хрящ. – А у брата твоего в билете значится «ноль – плюс», что в переводе первая группа – положительный резус! Как тебе в башку могло прийти прямое переливание?
Илюша не мог ответить. К нему не просто вернулось заикание, он был не в состоянии разжать зубы, чтобы выдавить слово. Подняв на командира отекшее синее лицо, Родственник напряг голосовые связки.
– Б-бра-ат ж-жив? – челюсть была неразъемной, словно залитая гипсом.
– У него гемотрансфузионный шок, он на искусственной почке! – орал Курбатов. – А всего-то надо было наложить жгут и доставить пострадавшего на поляну.
– Т-таджик н-не в-вино-ват. – Илюша до крови вгрызался в костяшку своего кулака и пялился в точку на стене.
– Это не тебе решать, мудила! Ты уже все в своей жизни порешал!
К Илюше еще приходили какие-то люди, о чем-то спрашивали, елозили, били, но он уже ни на что не реагировал. Потрясение было таким сильным, что главврач воинской части признал его невменяемым и определил в медицинский изолятор до разрешения ситуации. Илью накачали транквилизаторами и запретили общение с посторонними. Прошел месяц, пока наконец в палату вместе с Курбатовым не вошел отец. Опустившись на край кровати, Лев Леонидович взял в руки подбородок сына и, будто не видя его помешательства, решительно произнес:
– Илья, включи разум! Дело возбуждать не стали. Ситуацию признали учебной ошибкой. Родион жив. О переливании крови никуда не сообщили. Ты невиновен. Поправляйся и возвращайся в строй.
Илюша приоткрыл опухшие веки, густые восковые слезы застыли под слипшимися ресницами.
– Г-где Р-родька? – спросил он тихо.
– В городской больнице. Ногу сохранили, почки восстанавливают. Будет жить. Следователю признался, что сам вынудил товарищей перелить себе кровь, был уверен в своей правоте, как студент-медик.
– К-как А-абик? – прошептал Илюша.
Отец поднял глаза на Курбатова.
– Это наш таджик, Лечитель Баранов, главный переливальщик, товарищ подполковник, – улыбнулся прапор Льву Леонидовичу и, обратившись к Илюше, заверил:
– Все нормально с твоим Абиком. Отмотал на губе месяц, продолжает службу.
Илюша вернулся в часть к концу зимы. Абик был осторожным, немногословным, остальные молчали, делая вид, что ничего не произошло. Правда, кличка «Родственник» сменилась на более хлесткую «Уродственник», и в душе Илья жалел, что не умер в изоляторе или не тронулся умом настолько, чтобы не замечать ледяной насмешки сослуживцев. Самым человечным оказался Протейко. Обтирая мочалкой свое красное тело в душевой, он, будто невзначай, тронул Илюшу плечом:
– Не вини себя. Ты был готов сдохнуть за брата. Я тока в кино такое видел. Нас в семье пятеро ртов, но я ни за кого бы так не рвал глотку.
– А ч-чо т-толку, – огрызнулся Илюша, – т-только н-навредил и себя ур-родом в-выставил.
Иван Давыдович, старый гематолог Вологодской больницы, любил рассказывать пациентам байки. Мол, не йодом единым лечится человек, не чудесными руками хирурга, не современными инструментами и не тотальной стерилизацией материала. А только невыполненной перед Богом задачей. Не успел свершить задуманного – твои клетки животворяще будут воспроизводить друг друга, раны затянутся, выдавят токсины из организма, выхаркают черную кровь и воссоздадут тебя прежнего, Всевышним сотворенного. Чтобы встал ты и доделал свое дело, довел до конца планы, закрыл брешь в системе мира и вымолвил терзающее тебя слово.
– Вот какая у тебя цель? – спрашивал он Родиона, который был подсоединен к аппарату искусственной почки и волнообразно вздрагивал от пульсации машины, фильтрующей его кровь.
– Плюнуть в рожу Илье и сказать ему, какой он ублюдок, – отвечал Родик.
– Аллилуйя! – поощрял Иван Давыдович. – Месть – прекрасный мотив к жизни, сынок. Я до конца дней своих буду рассказывать студентам, как простой еврейский парень, чтобы только насрать в суп своему брату, остановил гангрену, возродил почки и трахнул двух медсестер¸ пока ему меняли утку в постели.
– Они сами меня трахнули, – огрызнулся Родик.
– Ну да, и твой протезированный магистральный сосуд, и твои разорванные в клочья нервные окончания, и твои рубцы на ноге длиною с веревку на виселице не сумели помешать провести возбуждение из твоего мозга в твой член! Все как-то удачненько срослось у человека, который, по идее, должен был остаток дней ковылять на одной конечности.
– Да вот еще, – разозлился Родион, – из-за какого-то долбаного парашюта я бы искромсал свою жизнь? Не-е. Я буду сосудистым хирургом. Как Пашка. Тоже хочу латать кровеносную систему, восстанавливать сосуды. Хоть из собственных тканей, хоть из полимерного говна.
– Вот, голубчик, – таял довольный врач, – а мы с Пашкой еще последим за твоими успехами, позаписываем в научных трудах твои борзые, наглые мысли.
Пашка довольно улыбался. Он гордился и трясся над Родионом, как над спасенным из-под грузовика котенком, которого удалось вернуть к жизни. По сути, Родик был его первым пациентом, полностью прооперированным самостоятельно, а не в качестве ассистента или второго хирурга.
– Пашка-паук, ты – гений! – говорили ему впоследствии врачи и жали руку.
И даже Оляша-лаборантка бросила на время своего папика-доцента и в углу ординаторской скинула с себя белый халатик.
– Паук, на два дня я – твоя! Только оставь меня первозданной – не зашивай рот и не заштопывай попу.
Пауком Пашку прозвали за удивительную способность сшивать между собой все, что попадалось на глаза. Он три года бродил как неприкаянный после интернатуры в Ленинграде, но местные больничные мэтры не воспринимали его полноценным хирургом. Подай-принеси, сбегай за пивом, пошел вон – как в захолустном театре, он долго дожидался своего сольного выхода на сцену. И пока бродил по коридорам, вынося утки в отсутствие санитарок, тренировал свой главный будущий навык – шить биологический материал. В кармане халата у Пашки всегда были моток шелковых ниток, обрывки тонкой лески и длинные куски бечевки. Правой и левой кистью, независимо друг от друга, он плел замысловатые фигурки в технике макраме, завязывая узлы только сгибами фаланг. Его руки выделывали виртуозные коленца, словно это были не пальцы мужчины, а тонкие лапки насекомых, колыхавшиеся на ветру. На спор он ставил локти на стол и на глазах у сослуживцев за пять минут одновременно выплетал каждой кистью два разных рисунка: левой – цветок, правой – божью коровку. А затем просил проверить крепость и разнообразие узлов – все аплодировали. Паша постоянно клянчил у сестры просроченный шовный материал и подбирал хирургические иглы из мусорного контейнера. В любое время суток на дежурстве что-то зашивал: треснутую виноградину, сломанный стебель одуванчика, раздавленную бусинку черной смородины. Он трансплантировал куски яблока на тело подгнившей груши, реанимировал разбитую помидорину, возвращал красоту лепесткам оборванной хризантемы. С тушкой сырой курицы Паук просто творил чудеса: кожные, подкожные, однорядные, многорядные швы как в хрестоматии красовались на спинке несчастной птахи. Все торчащие сосуды он ловко обвивал лигатурами, а для эффекта к шее пришивал голову петуха. Когда лаборантка Оляша фаршировала курицу рисом и яблоками, он накладывал завершающий горизонтальный матрацный шов, и птица, упругая, похорошевшая, почти живая, отправлялась в духовку на задворках хозблока. К Оляше Паша-паук подкатывал уже три года, но девушка знала, что путь начинающего хирурга хмур, безденежен и бесконечно долог. Поэтому первую половину дороги хотела пройти с бывшим научным руководителем из медучилища. Виделось ей, что так будет лучистее и сытнее. Когда возлюбленная уезжала с доцентом в Гагры, Паша в отчаянии намертво зашивал карманы, рукава и десять петелек ее халата, так что по возвращении, торопясь на смену и впопыхах натягивая спецодежду на загорелое тело, она плевалась и чертыхалась. Паук за стеной слышал это и грустно констатировал: возмездие свершилось.