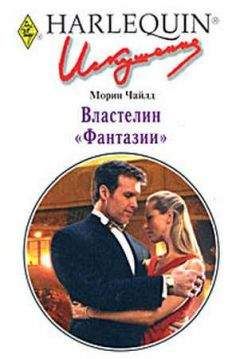Октав Мирбо - Сад Истязаний
Коломбо показался мне скучным, смешным городом, без живописности, без таинственности. С какой радостью я внутренне поздравлял себя, что чудесно вырван из этой глубокой скуки, которую представляли его прямые улицы, его неподвижное небо, его жесткая растительность, весь этот город, наполовину протестантский, наполовину буддистский, одуревший, как бонза и ханжа, как пастор. И я изощрялся в остроумии над кокосовыми пальмами, которые я немедленно сравнил с ужасными и облетевшими перовыми метелками, а также надо всеми высокими деревьями, которые я обвинял в том, что они вырезаны ужасными ремесленниками из листового железа и раскрашенного цинка. Во время своих прогулок по Слав-Исланду, — местному Булонскому лесу, и по Петаху, — местному Муфтарскому кварталу, мы встречали только ужасных опереточных англичанок, обтянутых в светлые костюмы, наполовину индусские, наполовину европейские, на самом же деле более карнавальные; встречали синеглазок, еще более ужасных, чем англичанки, старух в двенадцать лет, сморщенных, как чернослив, согнутых, как столетняя виноградная лоза, разбитых, как старая лодка, с деснами в кровавых ранах, с губами, сожженными арековым орехом, и зубами цвета старой трубки. Я напрасно искал сладострастных женщин, негритянок, практически искусных в любви, таких нарядных маленьких кружевниц, с такими выразительными жгучими глазами, о которых мне говорил лгун Эжен Мортен. И я от всего сердца пожалел несчастных ученых, посылаемых сюда с проблематическим поручением победить секрет жизни.
Но я понял, что Кларе не нравятся эти легкие и грубые насмешки и счел более благоразумным смягчить их, не желая ни причинять ей рану в ее страстном культе природы, ни падать в ее глазах. Несколько раз я заметил, что она слушает меня с томительным удивлением.
— Почему вы так веселы? — спросила она. — Мне не нравится, когда так радуются, мой дорогой… Это оскорбляет меня… Когда бываешь весел, в это время не любишь… Любовь — серьезная, печальная и глубокая вещь.
Впрочем, это не мешало ей разражаться смехом по поводу всего или безо всякого повода…
Это-то сильно одобрило меня привести в исполнение одну мистификацию, а именно следующую.
Между рекомендательными письмами, вывезенными мною из Парижа, было письмо к известному сэру Оскару Тервику, который, кроме других, научных титулов, был в Коломбо президентом «Association оf the tropical embruology and of the britich entomology». В отеле, где я остановился, я узнал на самом деле, что сэр Оскар Тервик был замечательным человеком, автором известных трудов, — одним словом, великим ученым. Я решил посетить его. Подобный визит более не мог быть для меня опасным, а потом для меня не было оскорбительным познакомиться, соприкоснуться с настоящим эмбриологом. Он жил далеко, в предместье, по имени Кольпетти, которое было, так сказать, Пасси для Коломбо. Здесь, посреди густых садов, украшенных неизбежным кокосовым деревом, в обширных и странных виллах, живут богатые коммерсанты, и почетные чиновники города. Клара пожелала сопровождать меня. Она ждала меня в карете недалеко от дома ученого на небольшой площади, осененной огромными деревьями.
Сэр Оскар Тервик принял меня вежливо, не более.
Это был очень длинный, очень худой, очень сухой человек, с совершенно красным лицом, с белой бородой; опускавшейся до пояса и квадратно подстриженной, как хвост пони. Он носил широкие панталоны из желтого шелка, и его волосатая грудь была покрыта какой-то шалью из светлой шерсти. Он важно прочитал поданное мною письмо и, искоса оглядев меня с недоверием, — недоверием ко мне или к себе? — он спросил меня на скверном французском языке:
— Вы… эмбриолог?
Я утвердительно кивнул головок.
— All right! — закудахтал он.
И с таким жестом, как будто бы вытаскивает сеть из моря, он продолжал:
— Вы… эмбриолог? Уеs… Вы… вот так… в море… fish… fish… little fish?
— Little fich… imenno… little fich… — подтвердил я, повторяя подражательный жест ученого. — В море?
— Yes! Yes!
— Очень интересно! Очень красиво, очень любопытно! Yes!
Продолжая такой жаргонный разговор и продолжая вдвоем тащить «в море» наши химерические сети, замечательный ученый подвел меня к бамбуковому консолю, на котором стояли три алебастровых бюста, увенчанных искусственными лотосами. Поочередно показывая на них пальцем, он представлял мне их таким серьезным и смешным тоном, что я готов был расхохотаться.
— Мистер Дарвин! Очень великий натуралист… очень, очень великий! Yes.
Я отвесил глубокий поклон.
— Мистер Геккель! Очень великий натуралист… Не такой, как он, нет!.. Но очень великий!.. Мистер Геккель здесь… вот так… он… в море… little fish…
Я поклонился опять. И еще более громким голосом, положив красную, как краб, руку на третий бюст, он крикнул:
— Мистер Коклин!.. Очень великий натуралист… из музея… как говорится?.. из музея Гревэна… Yes! Гревэна!.. Очень хорошо!.. Очень любопытно!..
— Очень интересно! — заключил я.
— Yes!..
После этого он отпустил меня.
Я передал Кларе со всеми подробностями и мимикой этот странный разговор… Она хохотала, как сумасшедшая.
— О, ребенок! ребенок… ребенок! Как вы смешны, милый мой!..
Это был единственный научный эпизод изо всей моей миссии. И тогда-то я понял, что такое эмбриология!
На другой день утром, после дикой любовной ночи, мы опять вышли в море, по дороге к Китаю.
Часть вторая
Глава 9
— Почему же вы еще не говорите со мной о вашей дорогой Анни? Вы не сообщили еще ей о моем приезде сюда? Сегодня она не придет? Она все еще также красива?
— Как, вы не знаете? Но Анни умерла, мой дорогой!
— Умерла? — воскликнул я. — Это невозможно! Вы смеетесь надо мной?
Я смотрел на Клару. Божественно-спокойная, красивая, почти голая в прозрачной тунике из желтого шелка, она небрежно лежала на тигровой шкуре. Ее голова покоилась между подушками, а ее руки, унизанные кольцами, играли длинной прядью ее распущенных волос. Лаосская собака, с рыжей шерстью, спала около нее, положив морду на ее бедро, а одну лапу на грудь.
— Как? — заговорила Клара. — Вы её знали? Как это смешно!
И, продолжая улыбаться, с движениями гибкого зверя, она объяснила мне:
— Это было нечто ужасное, милый! Анни умерла от проказы… от той ужасной проказы, которую зовут слоновой болезнью… Здесь все ужасно… любовь, болезнь… смерть… и цветы! Уверяю вас, я никогда, никогда так не плакала. Я так любила ее. А она была так красива, так странно красива!
Она прибавила с долгим и милым вздохом:
— Никогда уже больше мы не узнаем такого резкого вкуса ее поцелуев. Большое несчастье.