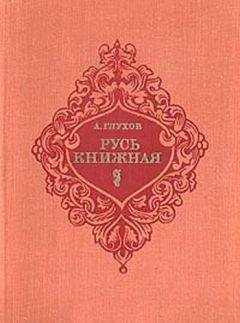Алексей Филиппов - Плач Агриопы
Это плед вдруг показался Павлу странно знакомым. Он напряг память. Что-то мерзкое, злое, чудилось управдому в этом куске ткани, цвета здешних узловатых стен. Тем временем, медики засуетились особенно отчаянно. Наблюдатель дёрнулся назад — вероятно, не желая им мешать. Его пиджак, небрежно наброшенный на плечи, от этого движения, свалился на грязный бетонный пол. Человек растерянно обернулся — не стал поднимать пиджак, — но Павел успел заметить роскошные усы — вьющиеся усы, — качнувшиеся туда-сюда перед глазами. Он похолодел, но совсем не потому, что узнал в наблюдателе — скандального политика. Потому что узнал, наконец, плед в его руках. Точно в такой был укутан младенец, которого Павел доставлял на подстанцию Скорой помощи. Подкидыш, вывалившийся из мусорного бака. Крошечный человек, в утробе матери заразившийся Босфорским гриппом. О да, Павел помнил изумление и страх врача, разглядевшего бубон у младенца в паху. Управдом знать не знал, сколько ещё таких младенцев рождалось позже в Москве и в других местах. Мог только догадываться: это — куда страшней тысячи заражённых, заражавшихся друг от друга — на улицах, в домах, в больницах.
А фигура в акушерском кресле — дёрнулась. Взвилась над поролоном и искривлённым металлом. Один из крепежей, удерживавший правую руку роженицы, порвался. И тут же — будто, наконец, вдобавок к видеокартинке включили звук, — Павла оглушил пронзительный, на одной высочайшей ноте, женский визг. Ближайший к креслу медик, схватившись за сердце, рухнул на пол. Но другие не только не отступили — сплотились вокруг роженицы тесней. Визг продолжался. Казалось невероятным, что человек способен исторгать из себя столь долго столь неистовый звук. Лопнула мерцавшая неоновая лампа. Наблюдатель пригнулся, наклонился вперёд, словно пытался противостоять урагану. На вытянутых руках он протягивал к креслу плед, будто полагал, что на нём — хлеб-соль.
Ещё один медик неестественно, как японский бонсай, скривился от боли. Схватился за плечо. Павел увидел: на халате проступает алое кровавое пятно. Выражение муки на лице медика вопило: не жилец! Но для остальных в группе — всё, наконец, закончилось. Трепыхавшееся крохотное тельце появилось на свет. Роды были приняты. То есть — завершился процесс появления существа из материнского чрева. Теперь предстояло резать пуповину, обмывать малыша и вручать его матери. Мать распрямилась, села на кресле, медики начали расходиться — и Павел напряг глаза: ещё миг — и он увидит лицо роженицы.
Что-то клубилось там, за спинами медиков. Как будто гнилое болото источало свои ядовитые миазмы. Как будто роженица — дымилась.
И Павел — вдохнул. Набрался — не то любопытства, не то мужества.
Последний медик подвинулся так, что перестал заслонять роженицу. Управдом заметил: у той курчавая голова.
У той…
- Не смотри-и-и-и-и! — Быстрая, светлая тень, метнувшись откуда-то из угла странной комнаты, ударила Павла в живот. Неделикатно, невежливо ударила. И, с ударом, вытолкнула его вон. Управдом обрёл вес, — или, может, окружающее пространство вдруг пропиталось всемирным и всемерным тяготением, — и шмякнулся на копчик. С глаз словно смыли пелену. Над поверженным Павлом стояла Тася: запыхавшаяся, в слезах, Тася. — Не смотри, — повторила она. — Этого — нельзя.
Управдом ошалело открывал и закрывал рот, не произнося ни звука; как от кузнечного молота, заслонялся, лёжа неловко на боку, от своей спасительницы. В голове шумело. Территория видения не простиралась более за порогом спаленки, но оттуда, казалось, всё ещё несло удушливым ароматом болота. Павлу хотелось спросить Тасю — как та угадала, как узнала, что ему нужна помощь, — но язык словно примёрз к гортани. Из глубин сердца и разума накатывала тоска — такая, какую нужно переждать, перетерпеть, — и только так одолеть. А тоску рождало пришедшее, наконец-то, раскрывшееся, наконец-то, как цветочный бутон, понимание истины: Чума — здесь.
Коварная, многоликая, хитрая. Не важно, чем она обернётся: Босфорским гриппом, войной, надругательством над слабым телом или над святыней. Она — здесь, — и будет жива, пока сможет плодить отпрысков. Госпожа Смерть, в лицо которой невозможно посмотреть без того, чтобы не отдать концы или не поклясться в вечной верности.
Она будет исчезать за углом, как ветреная красотка, оставляя за собою фимиам, сирень и разложение. Она будет обещать восторг и негу в своих объятиях. Она прикажет: «убей!», — и тысячи выполнят этот приказ, не усомнившись ни на миг в том, что убийство — благо.
Чума переждёт дурные для неё времена — ей не в новинку это: ждать. Но её дети будут жить среди людей, подготавливая новый её приход. Она бы ослабла и издохла, если б лишилась поддержки. Но уже не переведутся те, что выберут служение Смерти, вместо служения Жизни. Те, что примут у неё роды — столько раз, сколько она решит произвести на свет наследников и потомков. За горсть монет или бумаги, за место под солнцем, за собственное долгожительство — люди станут служить Чуме, госпоже Смерти.
А значит, чем бы ни закончился Босфорский грипп, он повторится. Сколько бы бессмысленной крови ни пролилось на площадях — придут те, что снова раздадут отчаявшимся ножи и позовут кромсать и резать. Сколько бы раз ни сражали благородные самоотверженные стрелки чумных королей — тронные залы не останутся пусты. Ибо Чума — госпожа Смерть — черпает силы в человеческих сердцах, а оттуда нынче поднимается слишком много гнили.
Павел понимал: всё это, что рвётся сейчас криком из горла, нужно пережить, просто пережить. Перетерпеть. Перестать рассиживаться квашнёй на полу: подняться — и ждать новой схватки. Ходить на службу, растить дочь, не отпускать от себя Тасю. И ждать схватки. Запастись оружием, запастись единомышленниками — и ждать схватки. Потому что он, Павел Глухов, уже никогда не сможет жить так, как жил прежде. Проходить мимо служителей Чумы, как если бы те были добропорядочными гражданами. Жать им руку. Выслушивать их речи. Платить им дань. Он, Павел Глухов, теперь никуда не денется от страшного и тайного знания: Чуму кормит человеческая кровь, а кровью переполненная глупцами земля — богата. И теперь — ничего не кончено, ничего не решено. Она вернётся. Как совместный проект ада и небес. Как последнее испытание для Адама и Евы. Как мельница, где душа истирается в пыль между жерновами света и тьмы. Она — вернётся. Чума — вернётся.
2014, Санкт-Петербург-Москва.