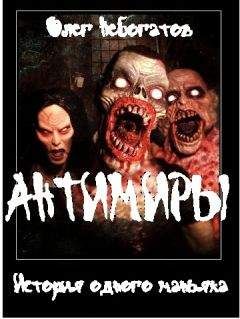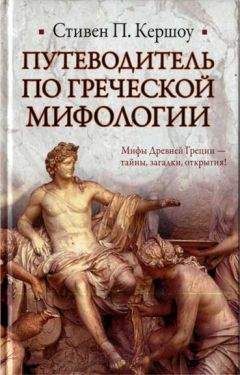Олег Кожин - Бестиариум. Дизельные мифы (сборник)
Земля задрожала под ногами. От древнего камня через капище потянулась громадная трещина. С каждой секундой она ширилась, раскрываясь точно лоно, готовое породить… кого? Я не хотел знать ответ на этот вопрос. Каким-то чудом я всё еще стоял на ногах, хотя под ними, на глубине, не достижимой простому смертному, ломались тектонические плиты, меняя привычный облик нашей планеты. Края трещины расходились всё дальше и дальше друг от друга. Старый мир отдалялся от нового. Реальность разделялась на завтра и сегодня, которое стремительно превращалось во вчера. Когда сгустившаяся темнота укутала противоположный край, на мое лицо упали первые капли, быстро перешедшие в сильный ливень.
Небо плакало.
Я не люблю государственные праздники. Особенно не люблю День повиновения. Для новых поколений этот день, когда в наш мир явился одноглазый юродивый, несущий весть о боге, простершем длань над северными землями, – настоящая веха не только в истории Независимой Сибири, но и всей планеты. Для меня же в этот день мир, в котором я жил и который любил, перестал существовать.
Нам грех жаловаться, если знать, что творится в других странах. Наше молодое государство отделено от территориальных претензий остатков бывшего Советского Союза естественной границей, именуемой ныне Большим Сибирским Разломом. С восточными соседями налажены довольно сносные взаимоотношения. Оно живет и процветает, прирастая природными богатствами, трудолюбивым народом и, конечно же, милостью бога, взявшего его под опеку. Пусть даже Независимая Сибирь всего лишь жалкий обломок некогда по-настоящему Великой державы. Но, может быть, я смотрю на мир глазами динозавра и времена Великих держав канули в Лету? У меня есть всё, о чем только способен мечтать смертный, однако пользоваться плодами своего положения мне не дано. Запертый в собственном теле. Выгнанный на задворки собственного сознания. Способный лишь плакать, осознавая свое бессилие, и радующийся, что хотя бы этого он не может у меня отнять.
Я, Макар Смага – бессменный правитель Независимой Сибири. Сельский паренек, так и не ставший никогда мужем, отцом и дедом. Первое воплощение обезумевшего древнего божества, обретшего, наконец, власть и свободу.
Сергей Игнатьев
МОСКВА – АТЛАНТИДА
На моем пути ночные фонари гасли один за другим, уступая рассвету. Синхронно с ними меркли их перевернутые двойники в лужах. Столицу накануне хорошенько промыло дождем.
Я свернул с Челищева на Клингера и пристроился на светофоре за хлебным фургоном.
Москва после дождя являла себя, как вышедшая из душа киноартистка – крутому детективу с постным лицом в западном фильме-нуар: сияющая, зовущая, жеманно укутавшаяся в низкие осенние тучи.
Город-монолит, ностальгическая красавица с веслом наперевес – Москва проступала из утренней мглы во влажном блеске аэростатов, мрачном величии министерских небоскребов, колоннад и статуй.
На проспектах было пустынно. Изредка попадались автофургоны, груженные молоком и хлебом, спешащие к открытию универсамов. Спешащие прочь из центра, загруженные под завязку пикапы ранних дачников. И спешащие в противоположном направлении, к центру, черно-лоснящиеся служебные авто с госномерами – вроде моей «Гидры».
Я миновал помпезное здание Дворца Советов, протыкающее статуей Ильича нависшие над столицей дождевые тучи. Ильич напоминал верзилу-баскетболиста, который хочет забросить трехочковый всему свету. У него не очень-то получилось.
Я ехал на работу. Рассветные лучи, мерцая на высоких окнах учреждений, пробуждая зелень в узких сквериках, вдыхали в город жизнь. Будили его ласковыми и теплыми касаниями. Раньше такое называли «бабьим летом». Теперь и зелени в Москве стало поменьше – уступила под натиском стекла, бетона и мрамора, да и само слово «баба», неуместный вульгаризм, похоронено обезличенным канцеляритом новой эпохи.
Я оставил «Гидру» на служебной стоянке, выходящей торцом на Альхазреда (бывшую Новослободскую).
Начал длинный пеший подъем по мраморной лестнице, в конце которой, обрамляя вращающиеся двери, пестрели с полсотни гербовых табличек. Но «нашей», Комитета Информации при Совете Министров СССР, – там не было. Специфика службы.
За столом у проходной коротала время с радиоприемником желтокожая мумия в похоронно-черных костюме и галстуке. На мне, к слову, был точно такой же костюм. Галстук повеселее, цветными ромбами – подарок матушки к выпуску из МГУ. Еще у меня, в отличие от мумии, не было медали за выслугу лет на лацкане.
– Доброго утречка, Август Порфирич!
– Рановато ты сегодня, Свиридов.
– Шеф вот разбудил.
– Армейцев с «Данвич вампайрс» смотрел вчера?
– Смотрел, да-а-а.
– Судью этого расстрелять мало – штанга ему там, ты подумай, а? Зато Славка Четверик-то, крученую плюху взял какую – шик! Золотой парень, скажи?
– Да не то слово!
Закуток проходной за стеклянным барьером выглядел искусственно вшитым в помпезный холл куском холостяцкой квартиры. Кроме упомянутого радио, еще кипятильник, холодильник, продавленное кресло, замусоленные ведомости, залитые чаем газетки, бутербродики, красочный календарь с певицей Алиной Лотаревой в модном образе жрицы Йог-Сотота (максимум косметики, минимум одежды).
Хотя всё выглядело безобидно, я знал: случись что, и стоит потрепанной мумии Порфиричу или его не менее потрепанным сменщикам разгрести эти свои кроссворды и ткнуть нужную кнопку – через полминуты тут будет половина Московского военного округа.
Вежливо кивнув старику, я миновал бесконечный холл, череду безымянных бюстов и автоматы с газированной водой и газетами. Каждый шаг по мрамору эхом отдавался от недостижимого потолка, расписанного воинами в «богатырках», ударниками стройки в выпуклых сварочных очках и осьминогоподобными жрецами Азатота и Ньярлатотепа.
Войдя в лифт, я заученным движением набрал нужные пять цифр.
Отправился в путешествие протяженностью в тридцать пять этажей.
В дороге я размышлял о том, что при всей неимоверной длине наших лестниц и коридоров верхушка КомИнфа неизменно поражает глаз своей тучностью. Просто какой-то парад толстяков. Как им это удается?
Я придумал только один вариант: когда заканчивается рабочий день, они не покидают здание. Не проходят через эти коридоры и лестницы. Они остаются. Вечерняя уборщица обходит кабинеты один за другим, сдувает их специальным насосом и убирает в шкаф. А рано поутру ее сменщица достает их из шкафа, надувает, налегая на рычаг насоса, смахивает мокрой тряпкой пыль с их благородных седин и сияющих плешей. Поправляет очки и узлы галстуков. И вот они уже сидят в своих креслах и готовы к работе – небрежным росчерком золотого пера подписывать бумаги; насупив брови, принимать телефонные звонки.