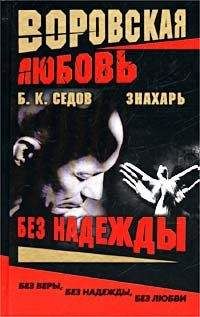Алексей Полстовалов - Западня душ
Тем не менее, я не был особенно удивлён, когда Лефевр собственнолично явился ко мне в мастерскую. Меня нередко навещали люди его круга – побывать у Шарля Тиссона тогда считалось модным. Вопреки ожиданиям, гость не был многословен, передав визитную карточку, он молча проследовал за мной в скудно обставленную комнату, служившую студией и спальней. Заговорил он не сразу, будто позволяя лучше рассмотреть его. В самом деле, посетитель обладал незаурядной внешностью, на вид ему было лет тридцать; среднего роста, он был настолько худ, что создавал впечатление весьма высокого господина, длинные чёрные волосы, волнами ниспадавшие на плечи были чуть посеребрены сединой. На лице Гастона не было безобразных признаков того, что он принимал активное участие в разгульных ночных развлечениях, сделавших его знаменитым: лицо было практически лишено морщин, а кожа имела вполне здоровый оттенок. Его улыбка была естественной и ничуть не напоминала вымученных гримас модных фатов, принявших за идеал подражания героя Поллидори. Лицо гостя можно было бы назвать прекрасным, если бы не неестественно высокий лоб и глубоко посаженные карие глаза, излучающие неземное сияние. Лефевр не стал осыпать меня льстивыми комплиментами, но в сдержанных выражениях пояснил, что его интересовали мои работы и он долгое время следил за развитием моего дара. Слова, произнесённые тихим мелодичным голосом, были учтивы, а тон визитёра не позволял усомниться в их истинности. В речи Лефевр избегал употребления вульгарных сленговых словечек, принятых современными молодыми людьми – более того, построение его фраз отличала некая старомодность. Должен сказать, что Гастон произвёл на меня неожиданно приятное впечатление: общаясь с этим хорошо воспитанным человеком, было невозможно вообразить, что рассказываемые о нём несуразности могли оказаться правдой.
Впрочем, посетитель не спешил говорить о цели своего визита. Он довольно легко вёл повседневную беседу, лишь время от времени позволяя себе сделать высказывания, свидетельствующие о том, что его явление не было случайно и гость имеет определённый замысел, исполнение которого во многом зависит от моих творческих способностей. Лефевр, несомненно, не мог не знать о моём отношении к заказным работам, поэтому ему пришлось проявить изрядную изобретательность и хитроумие, чтобы вызывать интерес и возбудить любопытство к его прожекту. Когда я был в известной мере заинтригован, Гастон изложил свой план. Он сделал это, будто прося совета о том, к кому из художников лучше обратиться для написания картины, но ещё прежде, чем он закончил, мне стало ясно, что для воплощения такой смелой идеи ему потребуется именно моя помощь. Впервые образ, не принадлежавший моему воображению, оказался настолько близок моим эстетическим воззрениям на потустороннее. То, что измыслил Лефевр, не могло идти ни в какое сравнение с предложениями, поступавшими в мой адрес ранее: его не интересовали трансильванские вампиры или упыри, пожирающие невинных жертв, он не намеревался заказать роспись для церкви секты дьяволопоклонников или оформить собственную почивальню в духе зловещих произведений Эдгара По. Он хотел изобразить Город. Меж двух высоких скал, в безжизненной долине лежал смрадный остов того, что некогда было счастливейшим местом на земле, потерянный рай, ещё хранивший воспоминания о былом великолепии. Лабиринты улиц, в которых, казалось, ещё звенел радостный детский смех, ныне были отданы на растерзание демону распада и гниения. Закованный в неприступную крепостную стену, не раз защищавшую жителей от набегов варваров, он стал теперь тюрьмой для несчастных людей, бледными тенями скитавшихся по городу. Чудовищные метаморфозы претерпевали эти гордые обитатели цветущей долины – мор, поразивший население, накладывал печать уродства на их прекрасные лица. Обезумев, люди рвали себя на части, матери убивали своих детей и пожирали их плоть; иные, в припадке сумасшедшего восторга предавались гнусным оргиям, или, изобретя мерзкие инструменты, калечили себя и своих товарищей. Немногие, запершись в полуразрушенных домах, пировали, и в угаре пьяного буйства ползали в нечистотах, уподобляя себя скоту. Через весь город протекала река, чудесные мосты, перекинутые через неё в незапамятные времена, были сокрушены потоком густой чёрной слизи, навеки оставшейся медленно колебаться в отточенных гранитом берегах. Скалы, угрожающе нависшие над долиной, были испещрены миллионами нор, в глубине которых таились отвратительные порождения подземного мира, готовые в любой момент вырваться на свободу; пещеры исторгали на город отвратительные едкие миазмы, отравляющие всё живое. Надсадный вопль о помощи возносили к бесчувственным небесам обречённые, но не было на него ответа.
Лефевр чрезвычайно живо описал своё видение полотна, так что я без труда представил леденящий душу образ безнадёжности и отчаяния. Относительно техники, в которой дoлжно было выполнить работу, Гастон высказался крайне категорично: он желал предельной правдоподобности в изображении описанного зрелища. Мрачный символизм Босха или Брейгеля слабо вдохновлял этого человека, гравюры Дюрера и Доре, будь они выполнены в цвете, несомненно, послужили бы неплохим образцом, но графика была не способна раскрыть истинное величие задуманной картины. И, конечно же, экспрессивный гротеск Гойи был здесь явно не к месту. Впрочем, я сам склонялся к мысли, что для достижения наилучшего эффекта следовало разработать особенную технику, по возможности, максимально приближенную к фотографии. Лефевр выдвинул ещё одно условие, касавшееся, как ни странно, авторства работы: я не имел права ставить свой автограф или каким-либо иным образом указывать на то, что картина принадлежала моей кисти. Я с лёгкостью согласился с этим желанием, которое в тот момент показалось мне не более, чем невинным капризом заказчика. В остальном Гастон постарался никак не ограничивать мою творческую свободу, мы обговорили сумму вознаграждения, и он, оставив более чем щедрый задаток, откланялся.
***
В первые дни после визита Гастона Лефевра я начал создавать эскизы. Мне стоило больших трудов решить непростую задачу композиции: количество сюжетов, фигурировавших в картине, создавало серьёзные сложности в их гармоничном размещении на холсте. Весьма многообещающим казалось использование приёма, активно практиковавшегося Эль Греко, чьё смелое обращение с перспективой позволяло изобразить предметы, которые увидеть в реальности было невозможно. Однако этот метод оказался неприменим в моём случае, так как искажения, невидимые даже при пристальном изучении полотна, всё же воспринимались вне участия сознания и губили картину. Я отвергал вариант за вариантом, пока не пришёл к тому, что мне представлялось оптимальным решением. Лефевр в целом одобрил набросок и внёс в него незначительные поправки, которые, как я отметил, свидетельствовали о его неплохом знакомстве с техникой изобразительного искусства и говорили в пользу того, что у этого господина был прирождённый талант к рисованию.