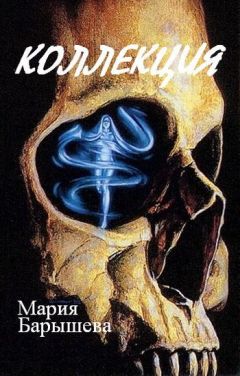Мария Барышева - Увидеть лицо
Олег зевнул, улучил момент, когда автобус шел более-менее ровно, без тряски, прижался лбом к холодному стеклу и блаженно вздохнул. Голова после вчерашнего, вернее сказать, сегодняшнего побаливала ой как ощутимо! Он закрыл глаза, и из пустоты чудесным видением выплыла запотевшая бутылка «Невского». Над горлышком вспухала горочка пены, по стеклу вниз лениво оползали холодные капли. Олег страдальчески облизнулся и поморщился — губы ссохлись и дотрагиваться до них языком было неприятно. Купит пива на первой же остановке! И какого черта он не сделал этого сразу?! Конечно, Серега всучил ему на прощание бутылку коньяка, но опохмеляться коньяком — не в его стиле.
Кривцов приоткрыл один глаз и глянул на часы, потом снова в окно. Они опаздывали — и прилично. Он раздраженно почесал затылок, надвинул кепку обратно на нос и попытался снова задремать.
* * *Борис Лифман всполошенно вскинулся в кресле, едва успев удержать уже почти сорвавшийся с губ крик. Несколько секунд он быстро-быстро моргал, непонимающе глядя перед собой, пока животный ужас не исчез из его глаз, оставив лишь сонную затуманенность. Потом расслабившиеся мышцы опустили его тело обратно на сиденье. Он откинулся на спинку, достал платок и аккуратно промокнул вспотевшее лицо, еще хранившее мальдивский загар, и на его указательном пальце блеснул тяжелый перстень — упитанный крокодил с разинутой пастью, изумрудными глазами и толстым хвостом. Борис глубоко вздохнул и положил ладонь на стекло. Холод успокаивал.
Что-то снилось. Что-то страшное.
Хорошо, что рядом со мной никто не сидит…
Он закрыл глаза и попытался вспомнить, но сон уже исчез бесследно — ни событий, ни лиц, ни очертаний. Только…
Разные глаза. Разноцветные глаза.
Черное.
Цветы.
Борис вздохнул еще раз и раздраженно потер лоб. Странно — в последнее время кошмары снились частенько, несмотря на спокойный образ жизни, на достаток, на постоянный отдых — шикарный, но без излишеств. Все есть, все-го хватает… тогда в чем же дело? Может быть, он заболел?.. Да нет, он регулярно обследовался — Лифман очень дорожил своим здоровьем, здоровье дается один раз, гарантий на него нет и обменять его невозможно. Нервы? — нервничать поводов не возникало. Жена идеальна и довольствуется тем, что получает, любовницы изобретательны, не дергают, не отравляют жизнь и то-же довольствуются тем, что получают, ювелирная мастерская, несмотря на дикую конкуренцию, приносит отличный доход, так что он может позволить себе и симпатичный двухэтажный особняк в немецком стиле с зимним садом и бассейном, и не менее симпатичную «БМВ-универсал», и регулярные поездки на курорты с проживанием в престижных отелях. Все шло прекрасно. Что же тогда? Муки совести? Не с чего.
Если бы кто-то назвал Бориса Лифмана жестоким, он бы удивился. Он был вежлив и образован, он был осторожен и рационален, но жестоким себя не считал ни в коей мере. Возможно, его рациональность и справедливость и была жесткой, но никак не жестокой. Да, он выжимал из «Дилии» все соки, следя, чтобы выработка была предельно полной, но, простите, для того «Дилия» и была создана, бизнес есть бизнес, и люди, которых он брал на работу, знали об этом. Хочешь получать деньги — работай, не нравится — до свидания, вы знаете, сколько сейчас безработных ювелиров!
Однажды он услышал, как одна из «серебрянщиц» назвала его «удельным князем». Возможно, это бы даже и понравилось ему, если бы не презрительный тон. Хамку Борис вскоре уволил, но прозвище не забыл, хотя и не задумывался над ним, как и над тем, что «Дилия» давным-давно и в самом деле превратилась в удельное княжество со своими законами, со своей системой штрафов — список, им лично аккуратно отпечатанный, висел на стене в каждом цехе. Опоздание — штраф, величина в зависимости от количества потерянного времени. Курение не по расписанию — штраф. Болтовня на рабочем месте — штраф. Шатание по цехам без уважительной причины — штраф. Обед раньше или позже половины второго — штраф. Приход на работу с бодуна — штраф. Употребление на рабочем месте — штраф. Ругань — штраф. Неуважительное поведение — штраф. Единственный язык эффективного воздействия — это язык денег, оттого и дисциплина в «Дилии» поддерживалась на высоком уровне. Лучшие, выгодные заказы доставались самым примерным. Хотите денег — работайте. Да, тяжелая работа, да, тяжелые условия, но высокая зарплата все оправдает.
Он пошарил по карманам и достал обтянутую красной замшей небольшую коробочку, открыл и принялся внимательно изучать лежавшие в ней пластмассовые макеты колец и перстней. Взял один из макетов — причудливое, но не аляповатое сплетение гибких ветвей и чешуйчатого змеиного тела и, рассматривая его, задумался, как кольцо будет выглядеть в золоте. Талантливая девочка, ничего не скажешь, воображение так же искусно, как и пальчики! Недаром едва придя в мастерскую, просидела на серебре всего три дня — он сразу перевел ее на модели — самый престижный цех, который его подчиненные именовали «шоколадным». Одно плохо — очень уж много пьет, ладно хоть после работы, а не во время. Впрочем, все его подчиненные пили по страшному. Оно и понятно — работа не сахар. Сам знает, сам был мастером, а после так свезло — стал директором филиала и с тех пор к инструментам не притрагивается. Ему всего лишь недалеко за тридцать, так что здоровье, слава богу, успел сохранить.
Борис положил макет обратно и взял другой, попутно глянув на часы и слегка нахмурившись. Пора бы уж и приехать.
* * *Жора Вершинин проснулся, зевая и потягиваясь — и то и другое от души и со вкусом, как делают это здоровые люди в прекрасном настроении.
— Э-эх! — сказал он и потянулся еще раз, широко раскинув руки, благо соседа у него не было. Все равно, простора маловато и в узком пространстве его большое, отменно мускулистое тело помещалось с большим трудом. Жора был гигантом с устрашающим, грубовато вылепленным смуглым лицом и знал, что при взгляде на него многим невольно представлялась арена, звон тяжелых мечей и хруст костей, вполне вероятно, их собственных. Люди, не знакомые с ним, часто пугались — и совершенно напрасно. Вершинин был добродушен до безобразия и вывести его из себя было крайне сложно, даже если человек обладал большим искусством в этой области. В свои двадцать семь лет он последний раз дрался в седьмом классе и с тех пор больше не ввязывался ни в какие конфликты, впрочем, при его появлении любые конфликты как-то сами собой сходили на нет. Жора не любил ни драк, ни ругани, ни кровавого мордобоя на экране. Больше всего на свете он любил покой. Любил завалиться на диван с интересной книжкой, или засесть за стратегическую компьютерную игру, или сразиться с кем-нибудь в шахматы, или просто поговорить об интересных вещах. Путешествовать он предпочитал не по городам, а по глобальной сети, на улицу выходил редко, в основном для деловых встреч или изучения ассортимента книжных и компьютерных магазинов, и длинные волосы, сейчас собранные в роскошный хвост, отрастил, скорее всего, исключительно потому, что лень было ходить в парикмахерскую, а вызывать парикмахера на дом Жора не хотел — он не пускал к себе кого попало. Жить Вершинин предпочитал один — девушки, задерживаясь у него больше, чем на три дня, пытались наводить в квартире свои порядки, убирать вещи, рыться в компьютере, а этого он не любил, поэтому одинокая жизнь его вполне устраивала. В его большой квартире имелось все, что нужно, с сетью принадлежавших ему «Интернет»-кафе особых хлопот не было, свой город он не покидал, и если бы не похороны старшего брата, Жора не оказался бы в этом автобусе. Изначально ехать не хотел — Колька и он с детства терпеть друг друга не могли и фактически считались братьями лишь по-тому, что у них были общие родители. Бросив школу после восьмого класса, брат долго мотался по стране, пока не осел в Пятигорске, где женился и где его, в конце концов, благополучно и прибили в пьяной драке в какой-то низкопробной забегаловке. Никаких отношений они не поддерживали, и узнав о его смерти, Жора слегка расстроился, а где-то в глубине души вздохнул с облегчением. Он предпочел бы попрощаться с непутевым братом мысленно, но мать настояла, чтобы он поехал — уж что-что, а настаивать она умела, прекрасно зная, что является единственным человеком, которому Жора не мог отказать ни в чем.