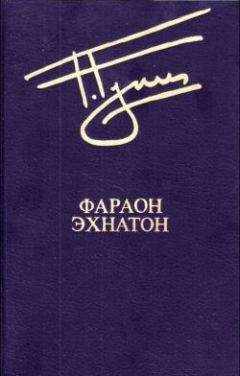Джон Гудвин - Кокон
Осеннее солнце, косым лучом подсвечивающее хрупкий пейзаж, низко зависло на западе, как блуждающий огонек. Редкие птицы, не покинувшие эти края, устраивали хриплый концерт: самые благозвучные и яркие уже пустились в свой полет к югу. Хотя листья деревьев выставили напоказ желтизну старости и охру угасания, кустарники, как и повилика, большей частью были зелеными. Вооруженный пинцетом и собственным всемогуществом Дэнни осматривал еще живые веточки и листья.
Колючие кусты рвали его обувь и царапали колени, однако ничем кроме обычных шелкопрядов с диких вишен, старания Дэнни не были вознаграждены. Но уже в сумерках, продолжая обследовать листья, облепленные сассафрасом, он обнаружил экземпляр, превзошедший его самые честолюбивые ожидания. На первый взгляд в полумраке это походило скорее на съежившегося дракона, чем на гусеницу. Когда Дэнни дотронулся до него, он увидел, что одутловатое тело сжалось, как обычно делают гусеницы; подобное поведение убедило его, что перед ним на самом деле гусеница и, стало быть, нечего пугаться. С помощью пинцета он осторожно отделил чудовище от веточки, положил в коробку, которую всегда носил при себе и, задыхаясь на ходу и не обращая внимания на повилику и кусты ежевики, помчался домой.
Когда он вошел, был час обеда; отец уже сидел за столом. Правой рукой он подносил ко рту ложки супа, а левой перелистывал страницы книги. Дэнни взбежал по лестнице, стуча башмаками.
— Ты опаздываешь, мой мальчик, — сказал отец между двумя напечатанными фразами и двумя ложками супа.
— Знаю, папа, — ответил Дэнни, не останавливаясь, — но я кое-что нашел.
Еще одна фраза и еще одна ложка.
— Сколько раз я тебе говорил выражаться более определенно. Кое-что! Это может быть чем угодно, от своей дороги в жизни до монетки в кармане старой куртки.
Дэнни бросил с площадки второго этажа:
— Это именно кое-что: я не знаю, что это такое.
Отец заворчал, но когда он дочитал абзац, подбирая в супе последний кусочек мяса, и произнес в адрес сына: «Что бы то ни было, оно подождет, пока ты пообедаешь», глаза Дэнни уже не отрывались от этой штуки за ламповым стеклом.
Даже при ярком электрическом освещении это походило на рептилию. Для гусеницы размер очень большой, от десяти до двенадцати сантиметров, прикидывал Дэнни; окрас мутно-фиолетовый, а в нижней части темно-желтый. На каждой оконечности находилось по три выступа в форме рожек киноварного цвета; они заметно загибались внутрь и были покрыты маленькими жесткими волосками. Изо рта выдавались наружу небольшие щупальца, напоминающие клешни ракообразных; кожа была морщинистой, как у черепах, брюшные сегменты четко выделены. Ножки еще не были снабжены подобиями хоботков, присущих обычно гусеницам; они имели форму маленьких чешуйчатых шипов.
Экземпляр действительно был достоин своего «замка». Он не фигурировал ни в одном из иллюстрированных атласов Дэнни; он сохранит его в тайне, и потом, когда после метаморфозы предъявит миру крылатое насекомое, известность отца, которую тот приобрел, добывая редких животных, побледнеет рядом с его собственной. Единственное, о чем он смог догадаться, исключительно из-за размеров, это то, что имеет дело с личинкой бабочки скорее ночной, чем дневной.
Он все еще был погружен в созерцание, когда служанка принесла поднос.
— Вот, — сказала она, — поскольку мистер настолько занят, что не находит времени, чтобы пообедать, как все маленькие мальчики. Если бы это зависело только от меня, вы бы остались голодным. — Она опустила поднос на стол и скривилась. — Фу! Что же может так вонять в этой комнате? Что там у вас теперь?
Она принялась осматриваться.
— Выйдите отсюда, — заорал он, готовый на нее броситься. — Выйдите!
— Нет и речи, чтобы я отсюда вышла, если вы так со мной разговариваете.
Он поднялся и в бешенстве вытолкал массивную служанку наружу, захлопнул дверь и закрыл на ключ.
Она что-то кричала за дверью. Дэнни не разобрал, что именно, да ему и дела до этого не было, поскольку он сам орал изо всех сил: «И больше никогда не приходите!» После чего девушка скатилась с лестницы и отправилась искать отца Дэнни.
Как и можно было ожидать, тот посочувствовал ее судьбе, согласился, что необходимо принудить сына к известной дисциплине, а затем, вернувшись к своей трубке и рукописи, выкинул все это из головы.
На следующий день Дэнни сказал горничной, что отныне запрещает ей входить в комнату, ни для того, чтобы заправлять постель, ни делать уборку.
— Еще посмотрим, — сказала она, — не будет ли это тем удовольствием, на которое я и не смела рассчитывать в этом мире, если мне никогда не придется входить в эту вонючую комнату.
Она снова обратилась к отцу Дэнни, и на этот раз, явно неохотно, он позвал ребенка.
— Этель говорит, что ты не хочешь ее пускать в свою комнату, — сказал он, глядя на него поверх очков.
— С этим нельзя больше мириться, — ответил Дэнни. — Понимаешь, папа, она ничего не смыслит в гусеницах, коконах и во всех этих вещах, и после нее повсюду такая неразбериха.
— Но кто же станет заниматься заправкой твоей постели, уборкой пыли и остальным?
— Я сам, — объявил Дэнни. — Это справедливо. Если я не хочу, чтобы входили в мою комнату, то должен буду заняться всем этим сам: убирать постель, например, наводить порядок.
— Сказано по-солдатски, мой мальчик. Я понимаю твои чувства, и если ты действительно желаешь пойти на соглашение, взяв на себя определенные обязательства, то я не вижу, почему этому не быть. Но, — и он навел на ребенка разрезной нож, выточенный из моржового клыка, — если твоя комната не будет чистой и приведенной в порядок, мы будем вынуждены отменить данную привилегию; не забывай об этом.
Отец, радуясь тому, что встреча не приняла тягостного оборота, которого он боялся, сказал сыну, что тот может идти. С этого дня Дэнни носил ключ от комнаты в своем кармане.
Поскольку гусеница отказалась от всего набора листьев, предложенных ей, а перестают они есть перед переходом в состояние куколки, Дэнни понял, что в тот момент, когда он снял ее с побега сассафраса, она как раз была занята приготовлением своего кокона. Теперь гусеница находилась в состоянии возбуждения, близком к конвульсиям; она передвигалась в своем ламповом стекле, переползая с сучка на сучок, на первый взгляд бесцельно, на самом деле — выискивая, где бы прикрепиться. Наконец, после целого дня, проведенного в этом блуждании, гусеница прицепилась к развилке веточки и принялась плести свой кокон. Еще через двадцать четыре часа шелковый аламбик[1] был закончен.