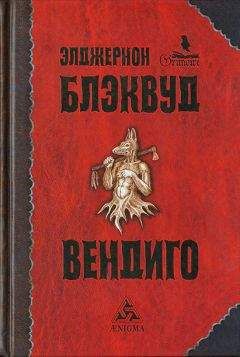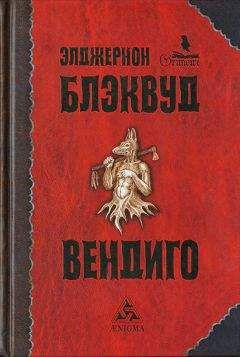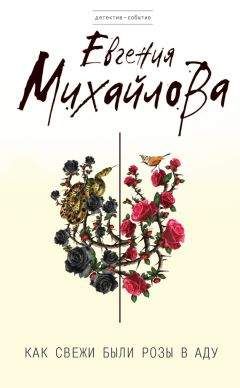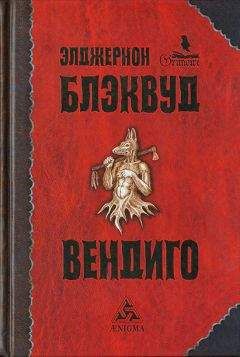Элджернон Блэквуд - Рассказы
Кукла! Миссис О'Рейли хихикнула себе под нос, и последние ее страхи растаяли без следа.
«Боже мой! — подумала она. — Видать, совесть у хозяина загажена, как пол в клетке с попугаем! И даже хуже! — Кухарка слишком боялась полковника, чтобы презирать его, и испытывала к нему чувство, скорее похожее на жалость. — Во всяком случае, — размышляла она, — он крепко переволновался. Он ожидал получить что-то другое, явно не грошовую куклу!» По доброте душевной миссис О'Рейли почти сочувствовала хозяину.
Однако, вместо того чтобы сжечь «эту дрянь» или выбросить, кухарка подарила ее Монике, ибо это все же была вполне симпатичная кукла. Не избалованная игрушками девочка мгновенно полюбила куклу всем сердцем и в ответ на строгое предупреждение миссис О'Рейли дала честное слово никогда не говорить отцу об этом замечательном подарке.
Отец Моники, полковник Хамбер Мастерс, производил впечатление «разочарованного» человека — человека, по воле рока живущего в отвратительном для него окружении; вероятно, разочарованного в карьере; возможно, также и в любви (ибо Моника, несомненно, была внебрачным ребенком), — и вынужденного из-за невысокой пенсии ежедневно ощущать зависимость от ненавистных обстоятельств быта.
Он был просто молчаливым и ожесточенным человеком, и в округе не столько не любили, сколько не понимали его. Неразговорчивого полковника с его темным, изборожденным морщинами лицом принимали за темную личность. Ведь «смуглый» в сельской местности означает «таинственный», а молчаливость возбуждает и бередит праздную женскую фантазию. Симпатию и искреннюю приязнь здесь вызывает открытый добродушный человек с волосами пшеничного цвета. Тем не менее полковник Мастерс любил играть в бридж и имел репутацию блестящего игрока. Посему по вечерам он уходил из дому и редко возвращался раньше полуночи. Картежники с явным удовольствием принимали его в своей компании, а факт существования у Мастерса обожаемой дочери в целом смягчал отношение общества к его загадочной персоне. Моника — хотя ее видели крайне редко — вызывала у местных женщин чувство умиления, и, по общему мнению сплетниц, «каково бы ни было происхождение девочки, он искренне любил ее».
Между тем Моника, в целом лишенная детских развлечений и игрушек, сочла появление куклы, этого нового сокровища, настоящим подарком судьбы. И ценность куклы возрастала в глазах девочки тем более, что это был «тайный» подарок отца. Множество других подарков получала она подобным образом и никогда не находила это странным. Только отец никогда прежде не дарил ей кукол — и в этой игрушке таился источник неизъяснимого восторга. Никогда, никогда не выдаст Моника своей радости и счастья. Это останется тайной, ее и папы. И все это заставляло девочку любить куклу еще больше. Она любила также и отца: его постоянное молчание внушало ей смутное уважение и благоговейный трепет. «Это так похоже на папу! — всегда думала Моника, получая новый странный подарок, и инстинктивно она понимала, что никогда не должна говорить за него «спасибо», поскольку это являлось одним из условий чудесной игры, придуманной отцом. Но эта кукла была особенно восхитительна.
— Она куда более настоящая и живая, чем мои плюшевые мишки, — сообщила девочка кухарке, критически исследовав игрушку. — И как это ему пришла в голову такая мысль?! Подумайте только, она даже разговаривает со мной! — И Моника ласкала и качала на руках неживого уродца. — Это моя дочка! — восклицала она, прижимая куклу к щеке.
Ведь никакого плюшевого мишку нельзя всерьез считать дочкой: запеленатые медвежата — это все-таки не человеческие детеныши, в то время как кукла очень похожа на настоящую дочку. И кухарка, и гувернантка почувствовали, что с появлением новой игрушки в угрюмом доме воцарилась атмосфера радости, надежды и нежности, почти счастливого материнства — во всяком случае атмосфера, какую не смог бы принести с собой ни один плюшевый медвежонок. Дочка! Человеческое дитя! И все же и гувернантка, и кухарка, обе присутствовавшие при вручении девочке подарка, впоследствии вспоминали, что, вскрыв сверток и увидев куклу, Моника испустила вопль неистового восторга, до странности похожий на крик боли. В нем слышалась слишком пронзительная нотка лихорадочного возбуждения, словно некое инстинктивное чувство ужаса и отвращения мгновенно развеялось в вихре непреодолимой радости. Именно мадам Джодска вспомнила — много времени спустя — о странном противоречии в реакции ребенка на подарок.
— Мне тоже показалось, что она слишком уж громко завопила, если вы спрашиваете меня об этом, — признала миссис О'Рейли позже, хотя в тот самый момент сказала единственное: «Ах! Чудесно, замечательно! Ну разве она не прелесть?»
Мадам Джодска же только предостерегла воспитанницу:
— Моника, если ты будешь целовать дочку так крепко, она просто задохнется.
Но Моника, не обращая ни на кого внимания, в восторге принялась баюкать куклу.
Дешевую маленькую куклу с желтыми волосами и восковым личиком.
Конечно, жаль, что такая загадочная история дошла до нас через вторые руки. В равной мере печально и то, что основную часть информации мы получили из уст кухарки, горничной и не внушающей должного доверия иностранки. Где именно изложение постепенно переходит зыбкую грань, отделяющую реальное от неправдоподобного и неправдоподобное от совершенно фантастического, определить можно лишь с помощью сильного телескопа. Под мощным увеличительным стеклом нить, сплетенная новозеландским пауком, превращается в толстую веревку, но при изучении полученных из вторых рук сообщений эта нить кажется прозрачной осенней паутинкой.
Польская гувернантка мадам Джодска покинула особняк «Лорелз» совершенно неожиданно. Несмотря на обожание Моники и уважение полковника Мастерса, она уехала вскоре после появления в доме куклы. Мадам Джодска была миловидной молодой вдовой благородного происхождения и хорошего воспитания, тактичной, благонравной и разумной. Она любила Монику, и девочка чувствовала себя счастливой в ее обществе. Молодая женщина боялась хозяина, хотя, вероятно, втайне восхищалась сильным, молчаливым и властным англичанином. Он предоставлял ей большую свободу, она же никогда не позволяла себе никаких вольностей — и все шло гладко до поры до времени. Полковник хорошо платил, а мадам Джодска нуждалась в деньгах. Потом она неожиданно покинула дом. Внезапность ее отъезда, как и данное гувернанткой нелепое объяснение этого поступка, — безусловно, первые свидетельства того, что сия загадочная история переходит зыбкую грань, отделяющую реальное от невероятного и совершенно фантастического. Решение свое мадам Джодска объяснила страшным испугом, который-де сделал невозможным ее дальнейшее пребывание в доме. За сутки предупредив хозяина об уходе с места, гувернантка уехала. Представленное ею объяснение казалось нелепым, но вполне понятным: любая женщина может вдруг так испугаться в некоем доме, что проживание в нем станет для нее просто невыносимым. Это можно назвать глупостью или еще как-нибудь, но это понятно. Навязчивую идею, однажды поселившуюся в уме суеверной и потому склонной к истерикам женщины, нельзя вытеснить из сознания никакими логическими доводами. Подобное поведение можно счесть нелепым, но оно понятно.