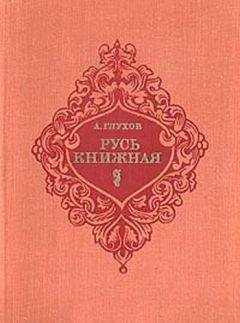Алексей Филиппов - Плач Агриопы
- Носи тело, как плащ, и жди, пока приду.
- Прости меня! — выкрикнул Иоанн. Он и сам не знал, за что просил прощения. Но из самых глубин души вытолкнул, выгнал на берег моря Киннереф этот крик.
Но ни человек в песчаном хитоне, ни его музыка, — не снизошли более до Зеведеева сына. А хитон сделался песком, туманом, памятью. Сделался миром, за грехи которого был распят носивший его. Сделался звездой — дневной и ночной, утренней и вечерней, — негасимой. Сделался торной дорогой, по какой уходят странники от голода, страха и беды. Сделался всякой тварью земной, всяким цветком и дыханием, хлебом, слезой, чистой кровью.
* * *- Наверное, сегодня, — полувопросительно произнёс Третьяков, наморщив лоб. Он рассматривал листовку, извлечённую утром из почтового ящика. При том, что почта в Москве, в обычном понимании этого слова, давно не доставлялась, листовки — и в ящиках, и на стенах домов, — появлялись регулярно. Каждый новый выпуск едва ли не в точности повторял предыдущий: содержал призывы сопротивляться военизированным медбригадам, якобы увозившим всех заболевших на расстрел; требовал выходить на борьбу с «высокопоставленными убийцами, утаивающими от народа лекарство». Менялись только даты и время «акций протеста». Почти все эти акции выливались в погромы больниц и аптек, иногда штурмовали ничем не примечательные здания в центре столицы, в которых, по мнению составителей листовок, располагались лаборатории по производству спасительной сыворотки. Спасения — ни в инъекциях, ни в таблетках — ни разу не нашли, зато, вроде бы, обнаружили несколько крупных захоронений на городских заштатных стадионах. Как раз после этой находки листовки запестрели сообщениями о массовых расстрелах заражённых. Абсурдность листовочной логики бросалась в глаза. Даже человеку, мало знакомому с работой государственной машины, было ясно: секретные лаборатории в центре города, расстрелы заражённых у всех на виду — абсурд. Собственно говоря, в расстрелах и вовсе отпала практическая нужда. Идти по широкому полю жизни, огнём, мечом и пулей выпалывая болезнетворные сорняки, не имело больше смысла. Поле полнилось гнилью от края до края. Оазисов здоровья в Москве практически не осталось: во всех районах города Босфорский грипп свирепствовал равно. Однако измученные и испуганные до полусмерти горожане не доверяли логике. Здравый смысл покинул их. Терпимость, смирение и стыд были сорваны бандиткой-бедою с жалких, замёрзших душ. Сорваны, как тончайшее покрывало. А под ним — обнажилось гнилое нутро. И с этой гнилью мастерски работал кто-то толковый, кто-то умелый, — кто-то, кто именно из такого мяса готовил острые блюда. Это он печатал листовки. Это он мудрил с погромами. И это его передвижения — вот уже полторы недели — пытались отследить чумоборцы в импровизированном штабе в квартире Третьякова.
Вместительное многокомнатное жилище, как выяснилось, на роль штаба подошло прекрасно. Здесь умудрились разместиться все действующие лица странной пьесы ужасов, в какой, пожалуй, один только Павел Глухов до сих пор играл свою роль нехотя — не всегда веря, что эта роль принадлежит ему. Остальные, после спасения Таси, наконец-то обрели цельность. И личную, и коллективную. Даже богомол больше не жил в тенях. Куда-то уходил, затем возвращался, — но неизменно оставался видимым для всех обитателей квартиры. Видели они и его добычу: консервы, сетки с подгнившей и проросшей картошкой, связки сушёных грибов и лука, «быстрые обеды» в пластиковых корытцах. Богомол оставался основным кормильцем чумоборцев, хотя пару раз в набеги на окрестные магазины отправлялся Третьяков, а однажды с ним напросился и Павел.
Управдом ощущал себя странно; ему всё чаще казалось: он — лишний. Может, и был когда-то нужен — да весь вышел. Все эти пришельцы из прошлого, гости в чужих телах, наконец, собрались вместе. И согласились: каждый — со своей миссией; и признали — каждый — свою. А Павлу нечем было заняться. Он попытался договориться с Третьяковым, чтобы люди погибшего Овода доставили к нему Таньку. Но «ариец» убедил: девочке лучше пока находиться подальше от эпицентра Босфорского гриппа. Управдом, скрепя сердце, согласился. Хотя воображение, раз за разом, рисовало ему медиков с хищными профилями, в хирургических масках, желавших провести над дочерью болезненные опыты. Когда Павел поделился этими страхами с Третьяковым, тот, морщась, как от лимона на языке, надолго исчез в своём кабинете, куда гостям квартиры вход был заказан, а, на следующий день, позвал управдома в эту святая святых. В маленькой комнатке обнаружился планшет, наподобие того, каким оперировал «шурик», подчинённый Овода. С его дисплея на Павла смотрело любопытное Танькино личико. Связь была ненадёжной — изображение «плыло», часто рябило и исчезало, — но в том, что дочь жива и здорова, убедиться позволяло.
Павлу удалось даже обменяться с Татьянкой несколькими словами: на большее «телемоста», устроенного Третьяковым, не хватило; звук был ещё отвратительней видеокартинки. Облегчение, после виртуальной встречи с дочерью, управдом, конечно, испытал, но, вместе с ним, пришло и что-то вроде обиды. Павел не определил бы точно: на кого обижен. На Третьякова, за то, что тот частенько задвигал его, Павла, интересы в дальний ящик? На Овода — за то, что умер нежданно и не вовремя? А может, на всех этих — инквизиторов, дев, алхимиков: на игроков команды, в которую путь для простаков был заказан? Оставался и ещё один вариант: Павел таил обиду на себя самого. За то, что, подчиняясь омерзительному здравомыслию, постоянно обманывал дочь. Что-то обещал — и нарушал обещания. Клялся — и становился клятвопреступником. Так случилось и на этот раз: Павел смирился с доводами Третьякова. А ведь тот оперировал логикой грубо и жестоко: как будто та была полицейской дубинкой или электрошокером. Убеждая, «ариец» не упрашивал — он отвешивал словами пинки, будто сапогами. Управдом корчился под ударами-словами, соглашался с логикой — и предавал Татьянку — уже не в первый раз. Предавал дочь, а злобу испытывал к Третьякову.
Но Третьяков не только раздражал — ещё изумлял Павла; тем, что, наравне с прочими чудаками, смирился со своей ролью в драме. С теми, другими, — всё было ясно: чудаки-чужаки в чужом мире. Их сближала непохожесть. И цель. Павел иногда раздумывал — желают ли они поскорей покончить со всем этим? И что, в итоге, в случае успеха ли, неудачи ли, с ними станет? Растворятся ли во времени, вернут ли тела первоначальным владельцам, или продолжат существовать в третьем тысячелетии от рождества Христова? А Третьяков? Тот давно уж избавился от паразита, по имени Валтасар Армани. Но продолжал играть роль стрелка — точней, готовиться к исполнению роли. Казалось, он не сомневался: когда придёт день и час — он нажмёт на спусковой крючок серебряного пистоля. Отнимет жизнь. Павла пугало это: незыблемость желания Третьякова отнять жизнь. Если вместо чумы падёт человек? Или падёт человек вместе с чумою? Неужели, для «арийца», это ничего не изменит? Неужели можно вот так, без сомнений, довериться роли?