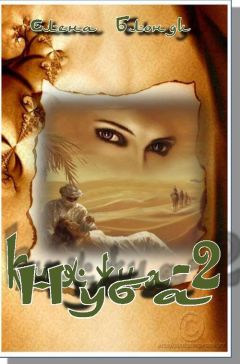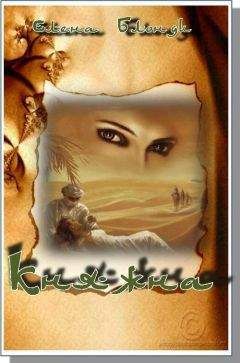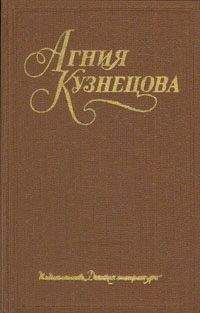Елена Блонди - Хаидэ
Оставив коней, Казым внимательно обошел весь шатер, поднимая ветки, выглянул на все стороны. И, усевшись на выступающий из твердой земли корень, лицом к невидимым сейчас скалам, стал терпеливо ждать. Он знал, небесные копья часто разят большие деревья, что убежали в степь жить в одиночестве, но верил коням. Достал из сумки завернутую в лопух лепешку, и отламывая куски, стал жевать. Когда ливень уйдет, он пустит коней поесть.
Между низких ветвей медленно прошла размытая фигура, от края правого глаза за край левого. Исчезла за виском. Казым проглотил кусок и, повернувшись влево, внимательно осмотрел пустое, мигающее тусклым светом пространство. Снова уставился перед собой, в далекую, клубящуюся за концами ветвей черноту. Дождался, когда фигура снова пересечет остановившийся взгляд. Встал, придерживая низкую ветку в коре гладкой, как девичья рука. Прижав ладонь к сердцу, проговорил в пустоту:
— Пусть труды твои будут легки и свободны, шаман Эргос, я рад, что ты здесь.
И усаживаясь снова, принялся доедать лепешку.
Хаидэ стояла под косыми холодными струями, задирая голову к матерь-горе, что раскрыла корявые руки, обнимая большую бухту. Верх ее был похож на огромную флейту пана, скалы левого края громоздились от низких к все более высоким в середине и снова снижались к правой стороне. Тут все выглядело не так, как со стороны степи. Там в узкой долине, казалось, просвет среди гор идет к самому морю и его видно — яркая синяя полоска, налитая на пушистую зелень в каменном обрамлении. А тут — глухая громоздкая стена, совершено черная и лишь при белых вспышках видно, как бугристы и изъедены временем откосы и склоны. Где-то внутри, в источенной лабиринтами толще, Ахатта и мальчики, а еще дикие тойры, готовые убивать пришлых раньше, чем говорить с ними. И — жрецы. Как хорошо, что в доме Теренция ее сестра выговорила все, что знает о тойрах и Паучьих горах, мучаясь от воспоминаний и горя. Теперь Хаидэ кажется, она видит лица жрецов и знает каждого…И этот песок, насквозь пропитанный ледяной водой, на него выходила Ахатта, пытаясь найти свою степь. Ей казалось, степь так далеко, а она в одном конном переходе в другую сторону. Хотя, разве меряется тут расстояние шагами и конским бегом? Нет, тут другое.
Хаидэ пошла к подножию горы, к самой ее середине, ища глазами хоть какую-то нору или площадку, каменную лестницу или уступы, по которым можно подняться выше и проникнуть внутрь. Но гора смотрела на нее огромной черной тушей, будто она — один бесконечный насмешливый глаз, мигала при вспышках, показывая — видишь, нет тебе входа, светлая женщина.
Песок заканчивался под насыпями черных камней, почти невидимых в темноте, а те уходили под основания скал. Хаидэ пошла вдоль неровной стены, ощупывая ее руками. Уже понимая, не один день ей придется идти вот так, пытаясь найти лаз или ступени на крошечной высоте ее роста. Может быть, ливень кончится, и вечернее солнце успеет осветить стену?
Но дальняя полоса, зачеркнутая макушками прибрежных скал, наливалась багровым светом. Скоро закат, а после него — сплошная темнота ляжет на песок. И невозможно зажечь даже факел.
«Прижмись к стене, накрой голову и жди… будь терпеливой. Твой сын был тут, когда ты вертелась перед зеркалом в доме Хетиса, и когда дралась в клетке на пиру. Побудет еще ночь. А завтра наступит день, выглянет солнце».
Слова в голове были разумны. Но сердце подстукивало, сбиваясь, возражая разумным мыслям. Что делать, если голова говорит одно, а сердце — другое?
Может, в других местах правильнее слушать голову, знала Хаидэ. Но не тут. Оглянулась на страшную и величественную картину. Она ушла одна, но это не значит, что согласилась идти в одиночку. Нельзя заглушать голос сердца, иначе оно не сможет позвать тех, кто слышит его.
«Я должна войти. Сейчас».
Она снова отошла от стены, вставая в самую середину песчаного полумесяца. И, раскидывая руки, крикнула, обозначая себя. Но слабый голос пропал в реве внезапного ветра и оглушительном треске грома. Молнии кидались из черных небесных скал, увязая в скалах земных, и мир внезапно и дико освещался, меняясь. В ярком свете шипящий от воды песок становился белым, как мертвый снег. И она превращалась в черную точку, как убитая холодом ворона, глядящая вверх неподвижной бусинкой глаза.
Хаидэ ударила себя по губам, онемевшим от ледяной воды, чтоб почувствовать, они еще шевелятся. Медленно поворачиваясь, оглядела дальний край скал, тонущий в черноте, бешеное море, усыпанное белыми гребнями, светлую полосу чистого неба, прижатую клубами туч. И снова повернулась лицом к глухой громаде горы.
— Что тебе нужно?!! — крик снова пропал в будто нарочно грянувшем громе.
Скинула шапку, путаясь негнущимися холодными пальцами, дернула кожаный шнурок. Шапка свалилась на песок и грохот утих, рокоча. Но тут же вскинулся снова.
В мелькании белых вспышек отстегнула от пояса меч и отбросила его в сторону. Стащила куртку. Нагнулась, выдергивая из сапожек завязки. Выпрямляясь, вслушалась в мерный рокот, что, кажется, перестал бешено вскидываться на каждое ее движение. И крепко ставя мгновенно заленедевшие босые ноги на мокрый песок, расстегнула пряжку ремня с ножнами кинжала.
Оставшись в рубахе с распахнутым воротом и серых грубых штанах, снова крикнула горе, чувствуя, как крик скребет горло:
— Видишь? Я одна.
Из узкого пролома в толще скалы, выше и напротив ее маленькой фигуры, пятеро жрецов, стоя вокруг Пастуха, смотрели через оконца, закрытые с внешней стороны каменными выступами. За их спинами, тяжело дыша, толпились тойры, десяток мужчин из сторожевой смены, вооруженных дубинками и толстыми короткими мечами.
— Мокра, как земляная жаба, — проскрипел Охотник, оскаливаясь и дергая себя за жидкую косицу, заплетенную цветными шнурами.
— И так же криклива, — подхватил Жнец и, повернувшись, глянул на обрюзгший профиль Пастуха, проверяя, уместны ли сейчас насмешки.
— Пусть снимет и это, мой жрец мой Пастух? — спросил Целитель, — заодно рассмотрим ее женские стати…
Пастух поднял руку, и гыкающие после каждого слова жрецов тойры замерли, ожидая приказа.
— Спустите платформу. А вы еще успеете насмотреться на ее тело, братья. Когда будет лежать, принимая каждого.
Тойры засуетились вокруг веревок и блоков, Пастух говорил уверенно, но внутри поднималось беспокойство и раздражение. И он с удивлением прислушивался к себе. Она упряма и быстро понимает навязанные правила. Так быстро, что кажется, это она ведет игру и правила принадлежат ей. Сильна и строптива. Пресыщенное нутро Пастуха знало, как и что нужно делать. Один способ, другой, третий, и жертва ломается, подчиняясь. А если же нет, всегда можно убить это жалкое тело, начиненное потрохами и жижей, оставить гнить в дальних подземельях или отдать на расклев степным стервятникам. Не жаль, всегда будут другие, что без перерыва подрастают, ведь люди живут коротко, плодятся радостно и без меры. Но когда раз в сотню лет рождается существо, отличное от обычных короткоживущих, убивать — все равно что выбрасывать в море драгоценность. Его беспокойство понятно: оставаясь живой, она может улизнуть, протечь сквозь пальцы, как протекала до сих пор, вывертываясь из всех попыток пленить ее душу.