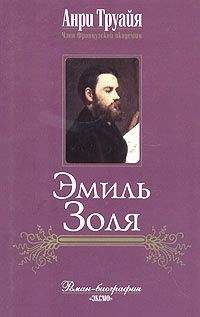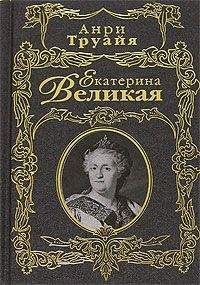Анри Труайя - Жест Евы (сборник)
Бубуль
Мадам де Монкайю держала в доме только шесть кошек, четыре собаки, дюжину канареек и трех попугаев, но ее благодеяния простирались на всех животных деревушки. В этих краях она жила лишь последние двадцать с небольшим лет по смерти мужа, крепкий дом ее стоял возле церкви, и жители Кранеля считали ее своей госпожой. Такое признание она заслужила благородными манерами и властным голосом. Высокая, крепкая, краснощекая, с волосами цвета ржавого железа, бледно-голубыми глазами, тройным подбородком и набухшей грудью, она передвигалась с аристократическим благородством или, как поговаривали злые языки, будто проглотила приставку от собственной фамилии. С той же силой, с какой она любила животных, мадам де Монкайю терроризировала людей. Конечно же, она была членом Общества защиты животных. И когда она шествовала по улице, полная спеси, в соломенной шляпе, украшенной веткой искусственной красной смороды, с черной кружевной накидкой на плечах и тканой сумкой, полной печенья и кусочков сахара, в руке, все кранельские владельцы собак, кошек и ослов чувствовали себя более или менее виноватыми. Казалось, что мадам де Монкайю обладает неким шестым чувством, позволяющим ей на расстоянии улавливать малые и большие беды всех этих младших собратьев рода человеческого. Краешком глаза она примечала и исхудавшую киску, и обглоданную блохами шавку, и пораненную сбруей кобыл у, впряженную в перегруженный воз. И тогда ее негодование было столь выразительным, что даже самые суровые крестьяне втягивали головы в плечи и не смели пикнуть даже слова в ответ. Она грозилась разоблачить провинившегося перед Обществом защиты животных и предъявляла при этом карту «Почетного члена» в целлофане. Такое подтверждение почетного членства впечатляло всех поголовно. Шептались, будто у нее длинная рука, в действительности не представляя, насколько далеко та простирается. Когда виновный расшаркивался перед ней в извинениях и обещал впредь быть отзывчивее и чутче, его еще и принуждали отведать приготовленное для животного блюдо. С полуприкрытыми глазами и гордым лбом, мадам де Монкайю при этом напоминала генерала, следящего за дегустацией супа для подчиненных. Вердикт был короток и крут, как удар хлыста:
– Смрад! Пригодно только для свиней! Заменить бульон на мясной!
– У нас на это нет средств! – стонал хозяин живности.
– Ну да, а на два литра вина в день на каждого средства есть? Постыдились бы! Я это так не оставлю! Я состою не только в Обществе защиты животных, но еще и в Лиге по борьбе с алкоголизмом! Вам это так не пройдет!
Животные слушали свою защитницу с видом глубокой признательности, словно понимали весь смысл этой перебранки. Мадам де Монкайю величаво удалялась, подняв моральный дух четвероногих и одновременно сбив спесь с двуногих, а те уж и не были уверены, с простыми ли животными они имеют дело.
Местный кюре как-то при случае поздравил мадам де Монкайю с победами, одержанными ею в затеянной кампании, но при этом не преминул заметить, что некоторую долю своей освободительной миссии она могла бы направить на облегчение тягот человеческих. Уж не ослышалась ли она? Заважничавшая было матрона покраснела так густо, что закрепленная на ее бюсте лента ордена Почетного Легиона потерялась из виду. В Сопротивлении она была санитаркой и не понаслышке знала, каково настоящее милосердие во время войны.
– Так вот, в мирное время, – еле сдерживая себя, выговорила она, – все эти людишки заняты лишь самими собой, а бедные животные не могут помочь друг другу, и уж тем более не в состоянии противостоять жестокости своих хозяев!
Она процитировала Иисуса Христа, святого Франциска Ассизского, генерала де Граммона и упрекнула своего наставника, ибо он тоже не удосужился завести у себя ни единой канарейки.
С того памятного дня, будучи натурой воинственной, мадам де Монкайю еще рельефнее обозначила усилия, направленные к вящей пользе живности Кранеля и окрестностей. Видели, как она разгоняет мальчишек, собиравшихся порыбачить и копавших земляных червей, как защищает курицу, совсем было попавшую под нож домохозяйки, как достает из паутины застрявшую муху. Дабы расширить фронт своих активных действий, она извлекла на белый свет старый автомобиль мужа. На огромных колесах, весь помятый, передком он напоминал рыбу-молот, с клаксоном в виде резиновой груши, издающей хриплые звуки, почти как крик петуха на закате дня. Ездила она не торопясь, оглашая окрестности треском и грохотом, намертво вцепившись обеими руками в руль, и от толчков на ухабах в такт друг другу у нее подпрыгивали складки на подбородке и красная сморода на шляпке. Ее приближение слышалось издалека, так что все зверье заранее оживлялось, а у людей начинался приступ добросовестности.
Однажды, возвращаясь из очередного похода, довольная, что выпустила на свободу одну сороку, перенесла в безопасное место двух улиток и предупредила утопление в воде четырех несчастных котят, мадам де Монкайю нашла Леони, верную свою служанку, в большом волнении:
– Скорее! Скорее, мадам! Нам только что доложили: пес мсье Табюза попал под машину! Ему, похоже, очень плохо! Нужно что-то делать!
– Бубуль? – вскрикнула мадам де Монкайю. – Этого не может быть! Я выезжаю!
Она тут же забралась в свой автомобиль и отбыла в сторону полуразвалившегося домишки на краю деревни, в котором обитал папаша Табюз. Овдовевший, состарившийся и ворчливый, он жил, словно троглодит, не имел постоянного занятия и кормился, как поговаривали, временными батрацкими подработками на соседних полях. Но мадам де Монкайю подозревала его в ночных браконьерских вылазках. Он вышел ей навстречу с опущенной долу головой, словно к земле ее притягивала тяжесть густых тюленьих усов. Его округлые, чуть навыкате глаза были полны слез. На носу, испещренном синюшными прожилками, висела большая капля.
– Ох! – выдавил он из себя. – Это ужасно. Умирает мой Бубуль!
– Как это случилось?
– Да я точно и не знаю. Ночью, пока я спал, он, наверное, выпрыгнул в окно, какая-нибудь бездомная сучка, это уж точно, сунулась ему под нос. Вдруг – бум! Скрип тормозов, крики! Какая-то машина встала, потом поехала. Я аж подпрыгнул во сне! Выхожу, зову, ищу повсюду, наконец, смотрю – лежит в канаве. Ему было так больно, что он и на меня зарычал! Я еле смог взять его на руки, чтобы сюда перенести. Идемте, посмотрите…Не знаю, что и делать… Эх, Бубуль!.. Бедный мой Бубуль!..
– Следили бы получше за ним, не пришлось бы теперь плакать, – сурово урезонила папашу Табюза мадам де Монкайю и проследовала за ним в дом. Потрескавшиеся стены там и сям пожирал грибок, под ногами валялась отколовшаяся половина плитки, в углах висела густая паутина, деревянные ящики были разбросаны повсюду вместо мебели, а в стенной нише на ворохе старого тряпья лежала часто дышавшая черная масса. Бубуль был помесью бриара и волкодава. В темноте различались его фосфоресцирующие желтые глаза, между белыми клыками свисал розовый язык. Он поскуливал, жалуясь, и прерывистое дыхание вздымало его бока. В густой темной шерсти торчали сухие травинки.