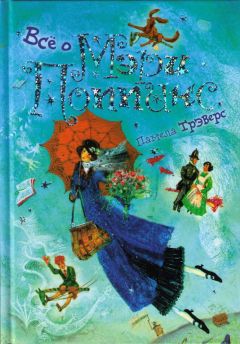Томас Трайон - Другой
Оседлав коня, прижавшись щекой к его шее, Нильс раскачивался под звуки «Путешествия Зигфрида по Рейну», оглушительно изрыгаемые витой раковиной дедушкиной виктролы.
Краем глаза он заметил тень, скользящую по полу. Он мгновенно выпрямился и оглянулся: от приоткрытой двери за ним наблюдала бабушка.
— Я везде искала тебя, — сказала Ада. Она сменила траурные одежды на домашнее платье, туго стянула узел на затылке. — Надо было догадаться, что ты здесь. У тебя сегодня пасмурный денек?
— Нет. Да. Что-то в этом роде. Я слушаю.
— А-a...gotterdammerung. — Она подошла и внимательно посмотрела на него, наморщив лоб. — Ты здоров, douschka?
— Конечно.
Он встал и подкатил кресло на колесах — крепкую безобразную махину, чьи покрытые литой резиной колеса гремели на ходу, как каменные. Прикатив кресло в закуток возле лошадки, он мягко взял ее за руки и попытался силой усадить в кресло, где ей было бы удобно.
— Знаешь что? Часы стали отставать. Я подвел их. Гири опустились до самого пола.
— Понятно. Кто-то забыл завести их?
— Ну, ты знаешь, как он вечно все путает.
— Кто?
— Холланд. Была его очередь.
Она оттолкнула его руки — мягко, чтобы не обидеть, — и отошла к окну, поднять штору. Он подошел и встал рядом, глядя вниз на газон, насос, колодец за пихтовой рощицей у дороги. Она отодвинула штору, будто приглашая его полюбоваться пейзажем: небо, трава, река, деревья, одна или две коровы. Ее прищуренные глаза смотрели дальше, через луга, реку, поля на той стороне, на хребет Авалона и дальше, дальше, сквозь непроходимые места, ему казалось, что она устремляется еще дальше, куда уже никто не мог следовать за нею, за хребет, за Тенистые Холмы, в края, где она может побыть одна, сама по себе, одинокая... кто? — ведьма, быть может? нет, больше, богиня, думал он, Минерва, такая спокойная, невозмутимая, милостивая, вышедшая в полном вооружении из головы Юпитера.
* * *Пластинка кончилась; он перевернул ее и включил виктролу. После нескольких тактов вступления полилось сочное, звучное сопрано. «Хо-йо-то-хо!» — боевой клич Брунгильды.
— Ага, — сказала Ада, вернувшись издалека. — «Die Walkure». — Когда он отвел ее к креслу и все-таки усадил, она сказала: — Нильс, тебе не кажется, что ты иногда взваливаешь на Холланда чужую вину?
— Может быть, но ведь была его очередь. Ну в самом деле, бабуленька...
— Нильс.
— Господи, — усмехнулся он, встретив ее взгляд. — Я ведь помню, когда моя очередь, как ты думаешь?
— Так ли это важно, чтобы гордиться?
— Нет. — Он попробовал уйти от разговора. — «Падению предшествует гордость...»
— "Погибели предшествует гордость, и падению надменность"[1].
— Разве я надменный? — Его вопрос, естественный вывод из разговора, сама мысль, что можно счесть его надменным, рассмешили ее.
— К счастью, нет. — Она погладила его и поцеловала в волосы. Сняла марионетку с дверцы шкафа: бедный запутанный король в картонной короне, в наряде, пошитом ею из обрезков бархата и ламе, оставшихся от платья Сани, с угрюмым лицом, размалеванным Холландом, глаза косые: король Кофетуа.
Нильс извлек из шляпной картонки купленную на распродаже грубо сработанную куклу, попытался заставить ее поклониться в пояс и засмеялся, когда она свалилась на кучу тряпья.
— Тетушка Ви ужасно несчастна, правда?
— Да.
— Мама тоже. Завтра пойду в Центр и куплю ей подарок, чтобы развеселить ее. — Он помолчал, мысленно подбирая подходящий товар. — Как ты думаешь, ей понравятся мексиканские прыгающие бобы?
Ада постаралась скрыть смех.
— Ну, в общем, почему бы и нет? Воображаю, как забавны прыгающие бобы. А заодно спроси у мисс Джослин, не появился ли темно-красный лак, который я заказывала. Хочу срисовать розы, пока они не отошли.
— Ладно. — Музыка кончилась, он встал, чтобы переменить пластинку. Мгновение спустя высокий тенор Джона Мак-Кормика заполнил комнату.
— Это случайно не «Юный менестрель»? — спросила она. — Целую вечность не слышала. Любимая песня твоего дедушки, я помню. — Она попробовала подпеть, имитируя ирландский акцент.
— Странно, как вдруг забываются слова.
— Ада?
— Да, детка?
— Почему Брунгильда идет на костер?
— Боже, о чем ты думаешь, все о Вагнере? Ну, во все времена так поступали женщины. Это называется приносить себя в жертву. Они отдают себя на погребальный костер возлюбленного.
— Да, но почему?
— Из-за любви, я думаю. Когда любишь человека, любишь его больше жизни, больше себя самого. Тогда смерть предпочтительней. И не так страшно принести в жертву свое тело, я думаю, свое физическое бытие, как...
— Она замолчала, подбирая слова.
— Как что?
— Как лишиться из-за любви разума. — Она протянула ему марионетку с распутанными нитями. — Держи, вот твой король Кофетуа, как новенький. Ты останешься слушать музыку или пойдешь со мной? Хочу заглянуть к твоей маме до ужина.
Он посмотрел на нее, ресницы его дрожали:
— Что с ней, Ада? Что случилось с мамой? Иногда она выглядит хорошо, совсем как раньше. И вдруг становится... — Он пожал плечами, по-детски недоумевая.
— Становится... смешная. Она все путает и ничего не помнит. Спрашивает, вывезли ли золу из печек, а их не топили с самого апреля.
— Пластинка, детка, — кивнула она на виктролу, игла впустую царапала дорожку. Он встал и поставил адаптер на начало. — Ты должен быть внимательнее к своей маме, — сказала она. — Мама поправится снова, со временем. Бог милостив! — Она сложила пальцы щепотью и перекрестилась на русский манер. — У нее шок. Ее разум... разум старается уберечь себя от боли. На некоторых людей горе действует сильнее, чем на остальных, понимаешь?
— Да. — По тону его не угадаешь, понял он или нет.
— Тогда ты должен помнить, что твоя мама нездорова. Иногда она бродит по комнате допоздна. Иногда совсем не ложится спать. И это очень плохо, сон — лучший лекарь. Когда мы спим, наш мозг и воображение обновляются. — Она широко развела руками. — Наше воображение — это вроде как глубокий бассейн, за день мы его вычерпываем до дна, а пока спим ночью, вода набирается вновь. А если вода не восполняется, нам нечего пить, нас мучит жажда. Во сне Бог дает нам силу, энергию, мир, понимаешь?
Он кивнул — ее речь произвела на него впечатление. Не спать, подумал он, это очень плохо. «Надеюсь, я смогу ей помочь», — пробормотал он, отвернувшись к трубе виктролы.
— Чтобы помогать, мы должны понимать друг друга: вот главное, что в наших силах. Единственная надежда на лучшее.
— Надежда. — Он взял у нее это слово, вертел его и так и сяк, изучая, прежде чем отложить про запас. Так он поступал со всем, что исходило от нее. Слушая музыку, он уносился далеко сквозь сумеречные пространства, где потустороннее улыбалось ему, где огонь не мог согреть его тело. Сквозь гром музыки он добавил еще одно, последнее слово к тому, что было сказано между ними.