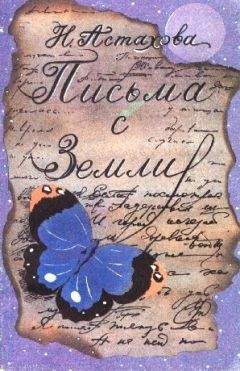Наталья Иртенина - Белый крест
— Я знаю, Григорий. Россия обязана тебе жизнью наследника.
— Россия! — с внезапной злобой вскинулся Распутин. — Россия ненавидит меня. Я как кость в горле у бешеных псов. Отступилась от Бога Россия. Меня алчут как Христа распять. Проклят будет этот народ. Еще помянут отца Григория, и не раз.
— Григорий. — Царица остановилась и дотронулась до него, тревожно глядя. — Что-то произошло? Ты что-то узнал?
— Узнал, — мрачно сказал Распутин. — Убьют меня скоро, матушка. Останетесь вы без меня. Маленького жалко.
— Кто они? — взволнованно спросила императрица.
— Все. Всем я мешаю. Бес-то крепок в душах. Меня боится. — Он жарко задышал в лицо Александре Федоровне. — Темной силой меня прозвали, знаете, верно? Губителем России кличут. На каждой улице шепчутся, в каждом доме. Меня убьют — прокляты будут. Не я — они губители. — Глаза его едва не выпадали из орбит, борода тряслась. Одержимый пророчествовал. — От меня ничего не скрыто. Вижу все. Если будет в сговоре кто из царской семьи — скоро сгинут все Романовы. Три раза цари будут корону с себя сымать. Первый раз ее не примет Царь Царей. Во второй раз отдадут корону жидам. А третий будет последний, и кончится Белое Царство. Сам царь будет разрушителем, в тайне станут подготовлять гибель империи. Настанет Черное Царство.
Старец неожиданно развернулся и зашагал прочь, оставив императрицу в сильном замешательстве.
Мурманцев снова увязался за ним, но ему показали уже все, что было нужно. Распутин удалялся все дальше и дальше, стены дворца мутнели. Рассветная дымка укутала окружающее, и Мурманцев проснулся.
Было хмурое раннее утро, дождь плясал на оконных карнизах.
Мурманцев помотал головой, встряхнулся. «Мне приснился бесноватый старец, — вяло подумал он. — К чему бы это?» Распутин уже сто тридцать лет как в могиле, в аду. Что ему нужно от живых? «Еще помянут отца Григория, и не раз», — взошли на ум слова из сна. Не очень-то и хотелось — поминать.
Мурманцев быстро, по-военному собрался, сел завтракать в одиночестве.
«А не завести ли нам собак? — размышлял он за столом. — Женился, а как будто чего-то все равно не хватает. Огромной лохматой псины на тапочках у кровати. Или детей? О чем это вчера говорил генерал? О моей женитьбе и нежелательных сейчас детях. И как это прикажете понимать? В резидентуру меня, не иначе, хотят заслать? Где сейчас на планете „особые обстоятельства“, как он выразился? Где еще, как не в Штатах урантийских. Выборы главы государства. Жарковато там сейчас, пожалуй. Нынешний их мельхиседек из секты маглаудов, последователей Арона Маглауда, мультимиллиардера с замашками диктатора. Проповедуют собственное избранничество, но без ориентации на грядущего мессию. — Мурманцев прокручивал в голове план лекции по курсу новейшей политической истории. — Идеология — масонский либеральный нигилизм: ценность имеет только то, что освобождает от ощущения ценности чего-либо. Приверженность империи-олигархии. С этими все просто. С этими до поры до времени нужно дружить против их конкурентов, поттерманов. Гудвин Поттер — колоритная личность. Абсолютно трезвый фанатик. Привел к власти свою секту протестантско-каббалистского толка после Великой войны. Собственно, и маглауды от них же отпочковались в конце века. Поттерманы расшифровывают в Библии историю своего будущего мирового царства. И расшифровывают успешно. Что неудивительно. Тоже считают себя избранным народом. И это неудивительно, принимая во внимание их сионистский фундамент. Фактическая проповедь расизма. Но, в отличие от конкурентов, эти ждут мессию. И года не проходит, чтобы не объявили об очередном явлении машиаха. Эти ребята опасные и зубастые. С ними дружить — себе вредить. В итоге что мы имеем? Две политические секты, борющиеся за власть, примерно с одинаковым набором лозунгов. Разница между ними, в сущности, непринципиальна и осязаема только для них самих».
Мурманцев допил кофе, натянул китель и вышел под зонтиком из дома. Машина уже ждала — белая «Карелия» из собственного гаража.
— С добрым утром, хозяин, — радостно приветствовал Кирилл, его шофер.
— С добрым, с добрым, — пробормотал Мурманцев. — Что такой веселый?
— Сестра родила! — широко улыбаясь, сообщил шофер. — Мальчик! Племянник. Три девятьсот.
— Мальчик? Это хорошо, — задумчиво кивнул Мурманцев. — Дети — это хорошо. И собаки на тапочках — тоже хорошо.
— Собаки? — изумленно переспросил Кирилл.
— Заводи-ка машину, братец. Не с руки нам сегодня опаздывать.
«Карелия» выехала из ворот. Вода заливала окна. Маятникообразные движения «дворников» гипнотизировали. Мысли в голове у Мурманцева стали такими же текучими, бесформенными, пузырящимися, как ливневые ручьи на улице, уходившей под уклон. «Да, разница неосязаема. В сущности, их всенародные выборы мельхиседека каждые четыре года — ведь это же национальная трагедия. Необходимость регулярно выбирать между шилом и мылом. По силе этой трагедии урантийцы встают в один ряд с античными героями. Эдип поверженный, Эдип торжествующий, Эдип комплексующий. Ведь это же какое самозабвение, какой накал страстей! Какая глубина раскола урантийского сознания, сорванного с петель! Оно мечется между двумя бессмысленными величинами, зажатое в тиски этого навязанного выбора. Поразительный народ. Сильный, агрессивный — и убогий. Называют себя свободными, но выйти за пределы штампованных формулировок не умеют».
— Кирилл, что такое свобода? — вдруг спросил он шофера.
— Свобода? — живо откликнулся тот. — Ну это как вам, хозяин, объяснить…
— Да вот как есть, так и объясни.
— Ага, счас. Ну, положим, значит, нравится мне Катерина, из булочной. И Дашка-почтальонша тоже нравится. И жениться пора. Детишками обзаводится, значит, хозяйством. Кто мне скажет, какую выбрать? А некому сказать. Вот и маюсь. И та хороша, и эта в самый раз. Дурак скажет, ты вольная птица, женись на любой, а не сладится — бросишь, возьмешь другую. Ну, дурак на то и дурак, чтоб врать. Всю жизнь мне, что ли, бросать жен и вольной птицей за бабами летать? Не-ет, я волю так понимаю: чтоб раз и навсегда. На то у меня и воля. Ну, в смысле — твердая воля. Не метаться между двумя девками, а взять себя, значит, за шкирку и сказать: вот эта, и точка. А дальше: один раз взял — береги и храни всю жизнь. Вот так вот, значит.
Мурманцев был поражен. Шофер, простолюдин — с тремя-четырьмя классами народной школы — с ходу попал в яблочко. Чуть ли не основной вопрос философии пригвоздил к стенке своим наглядным примером.
— А я, Савва Андреич, на выступлении один раз посидел, — объяснил Кирилл, глядя в водительское зеркало на Мурманцева. Прочел у хозяина в глазах оторопь. — Называлось — лекция. Публичная. Там, значит, профессор, маленький такой, зато голосистый, ввинчивал кренделя. У меня, конечно, одно слово в ухо, два — мимо, куда уж мне понимать слова разные умные. Только как он начал про волю, про свободу, значит, так меня и разобрал интерес. Вот, думаю, чего это господам про волю базарить? Ну, в смысле говорить, значит. Нешто им мало воли? Когда даже мужику ее хватает сполна. Нешто с сектантов иностранных моду берут? Им-то, штатникам урантийским, свобода и впрямь нужна — от антихристов ихних, значит, этих, мелхидесеков. А над нами царь и Бог — нам-то чего? А потом слушаю — и душа аж вспотела. Так он все по полочкам разложил, профессор этот. Как нож в масло, все в меня вошло. Так он и сказал: чтоб быть свободным, надо стать рабом. Не оставлять себе, значит, никаких там выборов. Одно-единственное, и точка… Нет, ну ты смотри, что делает!