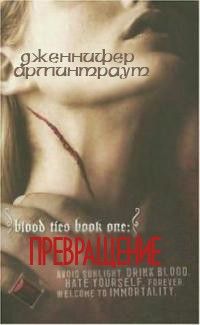Энн Райс - Вампир Арман
Но все, кто покидает господина, получают независимые средства, – объяснял Альбиний. – Дело только в том, что господин, как все венецианцы, порицает безделье. Мы такие же богачи, как и иностранные лорды, которые бездельничают и только пробуют наш мир на вкус, как блюдо с едой.
К концу этого первого солнечного приключения, посвящения в сердце школы моего господина и его великолепного города, я был причесан, пострижен и одет в те цвета, которые он и впредь всегда будет выбирать для меня – небесно-голубой для чулок, более темный, синий, цвета полночи, бархат для короткой подпоясанной куртки и в тунику еще более светлого оттенка лазури, расшитого крошечными французскими ирисами – толстыми золотыми нитями. Можно добавить немного винно-красного – на подбой и мех; так как, когда зимой морской бриз задует сильнее, этот рай посетит то, что по понятиям этих итальянцев называется холодами.
К наступлению ночи я уже гарцевал на мраморных плитах с остальными и немного танцевал под звуки лютни, на которой играли мальчики помладше, а также под аккомпанемент спинета, первого увиденного мной в жизни клавишного инструмента.
Когда над каналом за узкими остроконечными аркообразными окнами палаццо померкла красота сумерек, я стал бродить по дому, ловя свои отражения в многочисленных темных зеркалах, выраставших от мраморного пола до самого потолка коридора, салона, алькова и прочих прекрасно обставленных комнат, попадавшихся мне на пути.
Я пел новые слова в унисон с Рикардо. Великое государство Венеции называлось Серениссима. Черные лодки на каналах – гондолы. Ветра, которым скоро предстояло свести нас с ума – сирокко. Верховный правитель этого волшебного города именовался дожем, книга, заданная на сегодня учителем – Цицерон, музыкальный инструмент, подхваченный Рикардо и перебираемый его пальцами – лютня. Огромный навес над царским ложем господина – балдахин, его каждые две недели подбивают новой золотой бахромой. Я пришел в экстаз.
Я получил не только меч, но и кинжал.
Какое доверие. Конечно, остальным я казался сущим ягненком, да и себе тоже. Но никогда еще никто не доверял мне такое оружие из бронзы и стали. Память опять начала свои фокусы. Я умел бросать деревянное копье, умел… Увы, все заволокло клубами дыма, а в воздухе витало сознание того, что мое предназначение – не оружие, а нечто другое, нечто всеобъемлющее, требующее всего, что я мог отдать. Оружие носить мне запрещалось.
Нет, теперь уже нет. Нет, нет, нет. Меня поглотила смерть и забросила меня в это место. Во дворец моего господина, в салон с блестяще нарисованными батальными сценами, с картами на потолке, с окнами из толстого литого стекла, где я со свистом выхватил меч и указал им в будущее. Кинжалом, предварительно рассмотрев изумруды и рубины на ручке, я, открыв рот, рассек надвое яблоко.
Остальные мальчики смеялись надо мной. Но по-дружески, по-доброму. Скоро придет господин. Смотри. Из комнаты в комнату быстро переходили наши самые младшие товарищи, маленькие мальчики, которые не ходили с нами в город – они подносили к факелам и канделябрам свои тонкие свечки. Я стоял в дверях, переводя взгляд с одного на другого. В каждой из комнат беззвучно вспыхивал свет.
Вошел высокий человек, очень мрачный и сухой, с потрепанной книгой в руке. Черные длинные жидкие волосы, длинное свободное одеяние – черное, простое, шерстяное. Несмотря на веселые глаза, бесцветный тонкий рот хранил воинственное выражение. Мальчики дружно застонали.
Высокие узкие окна закрыли, чтобы не впускать прохладу ночного воздуха. На канале под окнами, проплывая мимо в длинных узких гондолах пели люди, их голоса звенели в воздухе, разбрызгиваясь по стенам, искрящиеся, тонкие, а потом стихали вдали.
Я съел яблоко до последней сочной крошки. В тот день я съел больше фруктов, мяса, хлеба, конфет и сладостей, чем способен съесть человек. Но я не был человеком. Я был голодным мальчиком.
Учитель щелкнул пальцами, достал из-за пояса длинный хлыст и хлестнул им о собственную ногу.
– Пойдемте, – сказал он мальчикам.
При появлении господина я поднял глаза.
Все мальчики, большие и высокие, младенческого вида и мужественные, подбежали к нему, чтобы обнять его и прижаться к его рукам, пока он производил осмотр созданной за целый день картины.
Учитель молча ждал, отвесив господину смиренный поклон. Мы всей компанией прошлись по галереям, учитель следовал за нами.
Господин протянул руки, считалось привилегией ощутить прикосновение его холодных белых пальцев, привилегией поймать часть его длинных плотных свободных красных рукавов.
– Идем, Амадео, идем с нами.
Но мне хотелось только одного, и это наступило довольно скоро. Их отослали вместе с человеком, который должен был читать им Цицерона. Твердые руки господина со сверкающими ногтями развернули меня и направили в его личные покои. Здесь царило уединение, расписные деревянные двери тотчас закрылись на засов, зажженные горелки благоухали ладаном, от медных лам поднимался ароматный дым. На мягких подушках кровати цвел сад из расшитого по трафарету шелка, атласа с цветочными узорами, плотной синели, парчи с замысловатым рисунком. Он задернул алый полог кровати. На свету они казались прозрачными. Красный, красный и красный. Это его цвет, объяснил он мне, а мой будет синий.
Он обращался ко мне на каком-то универсальном языке, осыпая меня образами:
– Когда в твоих карих глазах отражается пламя, они похожи на янтарь, – прошептал он. – Да, но они блестящие, темные, два сияющих зеркала, где я вижу свое отражение, даже когда они хранят свои тайны, темные врата богатой души.
Сам я погрузился в застывшую голубизну его собственных глаз и гладкий блеск кораллового оттенка губ.
Он лег рядом со мной, поцеловал, заботливо и ровно провел пальцами по волосам, не дернув ни за один завиток, отчего у меня по коже головы и между ног пробежала дрожь. Его большие пальцы, такие холодные и твердые, гладили мои щеки, губы, подбородок, возбуждая всю мою плоть. Поворачивая мою голову справа налево, он со страстным, но изысканным голодом прижимался полуоткрытыми губами к внутренней поверхности моих ушей.
Для влажных удовольствий я был слишком маленьким.
Наверное, это было ближе к тому, что чувствуют женщины. Я думал, этому не будет конца. Я погрузился в мучительный восторг, запутавшись в его руках, не в состоянии выбраться, содрогаясь, изгибаясь и вновь и вновь переживая прежний экстаз.
Потом он научил меня словам нового языка: слову, обозначающему холодные твердые плиты на полу – каррарский мрамор, портьеры – шелк, именам «рыб», «черепах» и «слонов», вышитых на подушках, названию льва, изображенного на самом тяжелом покрывале-гобелене.