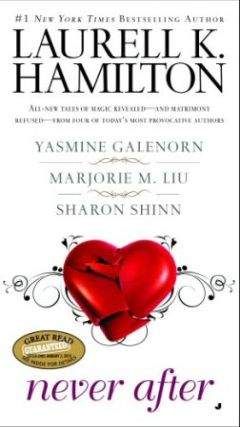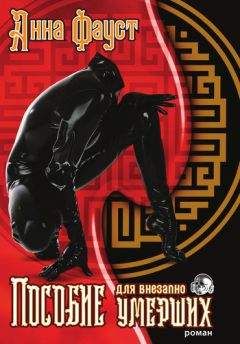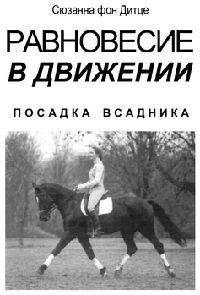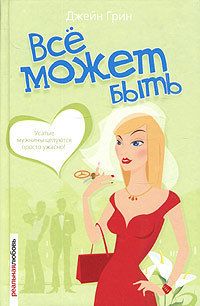Лорел Гамильтон - Обсидиановая бабочка
– Газеты называют ее истребительницей.
– Это вампиры ее так называют.
– А за что они ее так прозвали?
– А как ты думаешь?
Саймон посмотрел на меня:
– Сколько вампиров у тебя на счету, сучка?
Если представится случай, я собиралась провести с Саймоном урок хороших манер, но не сейчас.
– Точно не знаю.
– Примерно.
Я задумалась:
– Я перестала считать где-то около тридцати.
Саймон расхохотался:
– Тьфу! Тут у каждого счет куда больше.
– Ты людей посчитала? – спросил Эдуард.
Я покачала головой:
– Он же спросил только про вампиров.
– Добавь людей, – сказал он.
Это было труднее.
– То ли одиннадцать, то ли двенадцать.
– Сорок три, – подсчитал Саймон. – Микки ты переплюнула, но не Забияку.
Значит, очкарика на самом деле зовут Забияка.
– Оборотней добавь, – сказал Эдуард.
Он превратил это в конкурс. Я не была уверена, что хочу выглядеть именно такой опасной, но Эдуарду я доверяла.
– Черт, Эдуард, этого я точно не помню… – Я начала прикидывать про себя. – Семь, – сказала я наконец.
Даже слышать, как это говорится вслух, – от этого меня корчить начало. Будто конкурс рейтинга психов.
– И меня ты все равно не переплюнула, сучка.
Он начинал действовать мне на нервы.
– Эти пятьдесят – только те, кого я лично убивала оружием.
– Так что, – ухмыльнулся он, – ты не учла тех, кого убила голыми руками?
– Нет, этих я посчитала.
Улыбка была положительно снисходительной.
– Так кого же ты не посчитала, сучка?
– Ведьм, некромантов – публику вроде этой.
– А этих почему не включила? – спросил Микки.
Я пожала плечами.
– Потому что убийство с помощью магии – автоматический смертный приговор, – объяснил Эдуард.
Я повернулась к нему, нахмурив брови:
– Я о магии слова не сказала!
– Мы не друзья, – заметил Саймон, – но с нами, сучка, ты можешь быть честной. Мы копам не расскажем. Так, мальчики?
Он заржал, и они вместе с ним – тем нервным смехом, которым смеялись вампиры вместе с Итцпапалотль, будто боялись не смеяться.
Я пожала плечами:
– Почти все эти пятьдесят – санкционированные. Копы про них знают.
– Ты под суд когда-нибудь попадала?
Это заговорил молчавший до сих пор Забияка.
– Нет.
– Пятьдесят санкционированных трупов, – произнес Саймон.
– Плюс-минус сколько-то, – согласилась я.
Саймон посмотрел на Эдуарда – очередное испытание, кто первый отведет глаза.
– Ван Клифу она бы понравилась?
– Да, но он бы ей не понравился.
– Почему?
– Она не особо умеет выполнять приказы и слушать команды только потому, что у командира на плече лишняя полоска.
– Недисциплинированная, – заключил Саймон.
– Нет, дисциплинированная. Только чтобы она тебя слушала, нужно что-то побольше старшинства по званию.
– Тебя она слушает, – отметил Саймон. – Она не хотела говорить о своем счете, но послушалась тебя.
Судя по этим словам, Саймон очень наблюдателен, слишком даже, чтобы это не настораживало. Я его недооценила. Глупо. Даже хуже – беспечно.
Вышел еще один человек с точно таким же автоматом. Он был почти шести футов ростом, но казался меньше, как-то тоньше. Волосы темно-каштановые, коротко стриженные, вьются. Лицо хорошенькое по-девичьи. Такой темный загар, который даже и вообще не загар. На шее у него была скобка с наушниками, от них вели провода к коробочке и плоской… плоской палке. Наверняка это и был Двойка с палкой.
Я не поняла, что это, но Эдуард застыл неподвижно. Он знал, что это, и восторга не испытывал.
– Где тебя черти носили? – спросил Микки.
– Микки, – произнес Саймон, и произнес так, как Эдуард произносил «Олаф», добиваясь безусловного повиновения. От актеров второго плана реплик не требовалось. – Давай, – сказал Саймон Двойке.
Двойка надел наушники, щелкнул переключателем на коробке, и на ней зажглась лампочка. У Двойки был взгляд человека, обращенного мыслями внутрь себя, будто он слышал что-то, чего не слышат другие. Начал он со шляпы Эдуарда, опускаясь вниз, задержался у груди, пошел дальше. Присев возле ног Эдуарда, он провел палкой вдоль боков, тщательно стараясь не загораживать обзор троим с автоматами. Собственный автомат он закинул на ремне за спину.
Он встал, снял наушники и отключил их от коробки.
– Послушай, – сказал он и провел палкой у груди Эдуарда. Палка отчаянно запиликала.
– Снимай рубашку, – велел Саймон.
Эдуард не стал спорить. Он снял рубашку и протянул Двойке, который помахал возле нее палкой. Прибор молчал.
Двойка снова провел палкой возле груди Эдуарда, и снова палка запиликала. Вдоль рубашки – прибор молчал. Двойка покачал головой.
– Футболку, – велел Саймон.
Эдуарду пришлось снять шляпу. Он отдал ее мне, потом стащил футболку через голову. Кевларовый жилет казался очень неестественным и белым. Футболку Эдуард протянул Двойке, и повторилась та же процедура.
– Жилет сними, – сказал Саймон.
– Ты мне сначала скажи одно, – произнес Эдуард. – Дети живы?
– Какого тебе хрена в чьих-то выблядках?
Эдуард только глянул на него, но было в этом взгляде что-то, от чего Саймон сделал шаг назад. Поймав себя на этом, он шагнул обратно, не отводя ствола от груди Эдуарда.
– Я сказал, снимай жилет.
– Все равно для бронежилета слишком жарко, – задумчиво сказал Эдуард.
Странно было слышать это от немногословного Эдуарда, но надо его знать, чтобы заметить эту странность. У меня было чувство, что Эдуард только что подал сигнал: выживших не оставлять. Расстегнув жилет, он стянул его через голову и протянул Двойке.
И остался стоять, голый до пояса. Рядом с мускулистым Микки или башней-Саймоном он казался хрупким, но они видели в нем то, что видела я, потому что они его, безоружного и полуголого, боялись. Они реагировали на него точно так же, как Саймон. Точно так же держались подальше все, кроме Двойки. А Двойка вроде бы работал не на тех инстинктах, что остальные, хотя линию стрельбы ни разу не загородил. Он заставлял Эдуарда вытягивать руки или пригибался ниже линии огня. Никто из них не был небрежен – не очень хороший знак.
Двойка пробежался щупом по жилету. Когда прибор запиликал, он отдал бронежилет Саймону и еще раз провел возле груди Эдуарда. Тишина.
Это хорошо, а то я уже боялась, что Саймон тем же голосом, что говорил «рубашку», «футболку», «жилет», скажет «кожу». То, что Эдуард заставил его нервничать, еще не значит, что он перестал сам по себе быть страшным.