Татьяна Корсакова - Проклятое наследство
– Не похоже, что и сейчас нуждаетесь, – завистливо ввернула Коти.
– В деньгах не нуждалась, но нуждалась в сохранении воспоминаний о Машеньке. – Баронесса не обратила никакого внимания на этот выпад. У нее вообще хорошо выходило игнорировать злых и глупых людишек. Августу бы у нее поучиться. – После смерти племянницы у меня не осталось никого, а это место… оно хранит память.
– Что ж вы не приезжали-то сюда столько лет за памятью? – Матрена Павловна уперла кулаки в бока. Выглядела она при этом весьма воинственно. – Что ж нынче-то вам так память понадобилась?
Вопрос этот баронесса фон Дорф проигнорировала, сказала с холодной вежливостью:
– Все-таки дорога была не из легких. Пожалуй, я вас оставлю, господа. Мастер Берг, – она улыбнулась Августу, – благодарю за экскурсию, буду рада и впредь видеть вас в этом гостеприимном доме.
Дожидаться ответа не стала, развернулась и под руку с господином Шульцем направилась к замку.
– Ишь, фифа… – только и сказала Матрена Павловна. – Баронесса выискалась. Знаем мы таких баронесс.
Август устал. В самом деле устал за этот долгий день. Он ведь старик, ему позволено уставать.
– С вашего позволения я тоже… пойду. Утомился я, – сказал и покачнулся для пущей убедительности.
– Завтра приходите, – не попросила, а велела Матрена Павловна. – Персонаж вы, я смотрю, занятный, а на острове этом, чует мое сердце, скука нас ждет смертная.
Смертная… Это она правильное слово подобрала. Вот только скука ли?
Албасты и кошка его уже ждали. Сидели на лавке бок о бок, зыркали глазищами.
– Все в сборе? – спросила албасты, поглаживая кошку.
– Кажись. – Август упал на лежак, даже ботинки снимать не стал. – Не дом, а змеюшник.
– Как семнадцать лет назад?
– Может, еще и похуже будет. Измельчали людишки. – Он потянулся до хруста в костях, закинул руки за голову, продолжил задумчиво: – И никак в толк не возьму, зачем явились. Да все стразу. Даже баронесса из Вены пожаловала.
– Деньги. – Албасты почесала кошку за ухом. – У людей всегда одна-единственная причина для того, чтобы начать друг другу глотки рвать. Деньги их на остров привели.
– Еще любовь. – Август закрыл глаза. – Из-за любви тоже глотки рвут. – Перед внутренним взором встало растерзанное тело Злотникова. – Особливо из-за безответной любви. Вот только те, кто в замке, про настоящую любовь знать не знают. Пожалуй, ты права – деньги. А чего сама-то не заглянула, не посмотрела?
– Посмотрю. С острова они быстро не уплывут. – Албасты перестала гладить кошку, принялась расчесывать волосы костяным гребнем. В комнатушке сразу же сделалось холоднее. А на острых зубьях гребня Августу почудились капли крови. То ли волчьей, то ли человечьей…
Что она сделала тогда для Дмитрия? Помогла или судьбу будущую искалечила? Августу хотелось думать, что помогла: и Дмитрию, и Софье. Хорошая ведь получилась пара, правильная! Как у них с Евдокией когда-то…
Снова заныло сердце, и он приказал себе не вспоминать ни Евдокию, ни Софью. Вот только не вышло ничего.
Про Илькину смерть Софье пришлось сказать. Ради этого Август даже выбрался с острова, собственнолично явился в Пермь. Не напишешь такое в письме и письмом не погасишь горе. А Софья горевала: не кричала, не выла в голос, просто в ответ на слова Августа протестующе замотала головой, а потом враз обмякла. Дмитрий едва успел ее на руки подхватить, чтобы не расшиблась. И когда в себя пришла, тоже не поверила, отказывалась слушать, отказывалась слышать, себя во всем винила. Август тоже себя винил. Виноват он был больше всех остальных, такой камень на сердце носил, что иного бы этот камень раздавил, а он ничего, свыкся. Вот только к Софье и Дмитрию больше не приезжал и им являться на остров строго-настрого запретил. Сказал, что из-за албасты, а как там на самом деле, пусть останется на его совести…
Наверное, тягостные эти мысли незаметно перетекли в не менее тягостный сон, потому что, когда Август в следующий раз открыл глаза, в узкое оконце заглядывало уже не закатное солнце, а бледная луна. Кошка лежала у него на груди – вот тебе и камень на сердце! – а албасты ушла. Ну, ушла и ушла. Устал он. Так устал, что даже кошку, зверюгу рябую, спихивать не стал, снова закрыл глаза…
* * *Вагон уютно покачивало, под мерный перестук колес спать бы да спать, вот только Анне, урожденной графине Шумилиной, было не до сна. В висках в такт вагонным колесам бился пульс, и с каждым биением усиливалась головная боль, которая еще утром казалась незначительной, а теперь вот грозилась вылиться в настоящую мигрень. Не помог даже сладкий до тошноты чай, который принес ей на ночь Миша. Ничего не помогало, и причиной тому было принятое ею решение. Но назад дороги нет. Доведись ей вдруг прожить последние месяцы заново, она поступила бы точно так же – отказалась бы от всего, что у нее было, чтобы узнать наконец правду.
А было у нее все, что только душа могла пожелать. Пусть Анна и осталась сиротой, но детство ее было счастливым благодаря тете Насте и дяде Вите. Они ее любили, оберегали, не лгали.
Про настоящих своих родителей Анна узнала, когда ей исполнилось семь лет. Тогда тетя Настя многого не рассказала, лишь обняла крепко-крепко и сказала, что родителей больше нет, что они на небе и им там хорошо. Анна тогда, помнится, очень обиделась, что родителям может быть хорошо без нее. Прошли годы, прежде чем она узнала всю правду: про отца и каторгу, про маму и ее деда.
У самой Анны тоже был дед. Высокий седовласый старик в косматой волчьей шапке приезжал к ним в поместье раз в год. У него было странное имя – Кайсы. И улыбался он Анне тоже странной, тревожной какой-то улыбкой. Гладил по волосам, всматривался в лицо, качал задумчиво головой и улыбался. А потом, одарив внучку удивительными подарками – вырезанными из кости фигурками, бусиками из разноцветных камешков, невесомой собольей шубкой, – всякий раз повторял:
– Растет моя девочка, настоящей красавицей растет.
Про красавицу это дед Кайсы говорил, чтобы Анну не расстраивать, потому что красивой она никогда не была. Худая не в меру, мосластая, скуластая, с глазами раскосыми, какого-то невыразительного серого цвета, с волосами рыже-пегими, хоть тетя Настя и называла их русыми. Вот мама, которую Анна видела только на пожелтевших от времени, бережно хранимых в семейном альбоме карандашных рисунках, была настоящей красавицей, и тетя Настя была красавицей, а Аня – так, недоразумение сплошное, сразу видно, что выродок и приблудыш.
Про то, что она недоразумение, выродок и приблудыш, Анна подслушала совершенно нечаянно и даже не сразу догадалась, что речь идет о ней. Говорили соседки, Валентина Петровна и Надежда Ивановна. Они были немолоды, степенны и чопорны, улыбались Анне сахарными, неискренними улыбками. В глаза улыбались, а за глаза говорили такие гадости. Анна уже была достаточно взрослой, поняла все правильно, но вот нахлынувшая вдруг обида не позволила сдержаться, привела в слезах к тете Насте. Та выслушала молча, погладила по волосам, накормила вкуснейшим вишневым пирогом и сказала, что не стоит обращать внимания на глупых и злых людей. С тех пор Валентина Петровна и Надежда Ивановна больше не появлялись в их доме, тетя Настя умела быть жесткой. А Венька, первейший Анин друг и защитник, украдкой от Ксюши перемазал соседские ворота куриным пометом, даже не убоялся, что дядька Трофим, его отчим и Ксюшин муж, непременно выпорет, как узнает об этакой проказе. Дядька Трофим узнал, но не выпорол, наоборот, дал Веньке медовый пряник, потрепал по вихрастой голове, а потом пообещал:

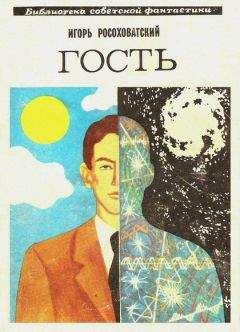
![Светлана Чистякова - Наследники Падших Книга вторая Трудно признать [CИ]](/uploads/posts/books/3156/3156.jpg)

