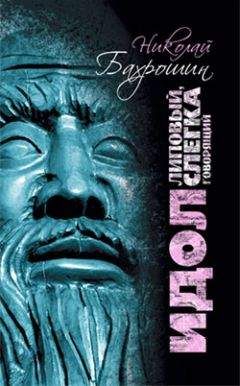Идол липовый, слегка говорящий - Бахрошин Николай
– С тобой, Бломберг, мы после поговорим, – срезал его Гаврилов. – Что-то я не наблюдал тебя в двух последних номерах. Для начала напишешь мне объяснительную, раз тебя ломает писать заметки! А ты, Кукоров, ноги в руки и оформляй командировку прямо сегодня! Я видел по Интернету, там, на Севере, сейчас какой-то ежегодный межнациональный слет шаманов или какая-то другая бесовщина, не знаю… Почему я должен это знать? В конце концов, кто у нас обозреватель по мистике, прости Господи?! Вот так!
Главный редактор «желтых» «Экспресс-фактов», идеолог звездной порнухи и матерый чиновник от журналистики Геннадий Петрович Гаврилов, был, ко всему прочему, глубоко верующим человеком.
– Теперь по Бойкову… – продолжил Гаврилов. – Значит так…
– Мы здесь посоветовались, и я решил… – вдруг подсказал Мануйлин.
– Ты решил? – удивился Гаврилов без тени улыбки, глянув на шутника стальными глазами. Тот немедленно смешался и сделал вид, что он идиот. Получилось удачно.
– Значит так! – жестко повторил главный. – Сейчас все дружно встают и идут делать номер. Через полчаса жду от ответсека и дизайнеров предложения по обложке! Номер должен быть подписан, как обычно, вот так! За каждый час просрочки снимаю с секретариата пять процентов оклада! А кто и в чем виноват – будем разбираться после подписания номера! И разберемся, это я обещаю… Всё, работать!
Редакционный народ вставал, шумно двигая стульями…
Конечно, в другое время Саша от подобной лихой поездки отбрыкался бы с легкостью. Гаврилова всегда можно убедить не тратить редакционные деньги на то, о чем можно писать, не выходя из кабинета. С тем же сомнительным успехом для здравого смысла. Вряд ли шаманы бегают с голыми задницами даже в разгар своего партсъезда, и следовательно, широкого общественного резонанса данный факт среди массовой аудитории не вызовет. «Куда ехать? Зачем, Геннадий Петрович? Кому это интересно, если разобраться? Звездные жопы, стоящие в фундаменте популярности “Экспресс-фактов”, просто вопиют от подобной безвкусицы…»
Можно было объяснить. Но не нужно. Ситуация нервная, собственное положение, ввиду опоздания, сомнительное, пришлось довольствоваться тем слоном, который ему вручили. Командировку Саша оформил в тот же день.
– Ну, прощай, турист! Не поминай, как звали, – сказал ему вечером Мишка Бломберг. Сам он отделался от державного гнева очередной объяснительной, которых писал по пачке в месяц, от души упражняясь в бюрократической лингвистике. «На основании вышеизложенного объясняю, что нижеуказанное имело место быть ввиду следующего перечисленного…» Отрывки из стилизованных под канцелярский язык шедевров Бломберга ходили по редакции как анекдоты. Похоже, это превратилось уже в игру своего рода. Объяснительные обозревателя Бломберга Гаврилов аккуратно складывал в папку. Иногда, под настроение, зачитывал на редколлегии очередной опус. Давно стало непонятным, кто в этой игре выглядит самым крайним, а кто – еще тупее.
– Главное, не влезай в зубодробительные дискуссии о возрождении тунгусской национальной идеи на почве вечной мерзлоты! Береги смолоду честь издания! – напутствовал Мишка. – И не пей больше остальных, кстати! Коллектив не любит, когда из него выделяются в отдельные личности…
*
– Слушай, давно хотел тебя спросить, идол – это религия? – спросил как-то Саша хранителя.
– Ну что ты! Местных оболтусов, что ли, наслушался? Так они тебе еще и не то расскажут… Идол – это явление. Да еще какое явление! Феноменально не объяснимое и до жути привлекательное. Для тех, кто его не понимает, – тем более привлекательное. Тайна и чудо в одной посуде…
Потом, уже сидя в Москве за компьютером, Саша попытался вспомнить и записать их долгие разговоры. Получилось не очень. Ему самому все это начинало казаться незначительным и в чем-то даже наивным трепом. Пребывая в привычной квартире, кожей и спинным мозгом чувствуя над собой всю беспокойную многоэтажность панельного дома, слыша сквозь закрытые окна нервный гул многомиллионной столицы, Саша и сам воспринимал эти беседы уже иначе. Более сдержанно и куда более критично. Как обычно, отгородившись от всего окружающего щитом иронии, привычного журналистского стеба, уксусного, едко-кислого и ни к чему не обязывающего.
Маска? Пусть так! Он вернулся домой, а к нему вернулась старая, можно сказать, застарелая маска. А куда ее деть? Интересно, в какой хронологический период жизни маска становится выражением лица?
Просто становится. Возникает. Разводится, как плесень от кромешной сырости. И тогда действительно начинаешь искренне недоумевать, неужели два взрослых человека в здравом уме и незамутненном сознании могут коротать время в рассуждениях о смысле жизни? Нелепо, в чем-то неприлично даже. В наше-то непростое время, когда жить некогда, когда остается только выживать по мере сил и возможностей… И так далее… Как стало сейчас неприличным спрашивать чиновника на скудном бюджетном окладе, откуда у него трехэтажный коттедж за городом и вилла с бассейном на Канарах.
Впрочем, в тайге, под низким небом с лохматыми тучами, перед затухающим костром с черно-багряными углями, среди ровного, мерного шума вековых деревьев все это выглядело и слушалось по-другому. Слишком спокойно было вокруг. Слишком вечно. Это хорошее определение пришло ему в голову уже в Москве.
Приоритеты сместились, утверждал Иннокентий, просто, откровенно и незаметно сместились приоритеты. От этого люди и заметались, как муравьи при пожаре…
– Суди сам, Санек, – рассуждал, помнится, хранитель, благодушно ковыряя в зубах длинной щепкой, аккуратно заточенной штык-ножом, – сейчас, встречая старого друга или приятеля, которого ты, допустим, не видел много лет, ты же никогда не задашь ему главный вопрос, который тебя по-настоящему интересует.
– А какой главный вопрос меня интересует? – полюбопытствовал Саша.
– Ну например… Мой друг, не страшно ли тебе будет умирать?
– Нет, такой – не задам, – сознался Кукоров. – Если, конечно, не долбанусь головой об дверь непосредственно перед встречей. Да и в этом случае не задам. Чувство юмора скорее всего будет против.
– Чье чувство юмора, твое или друга?
– Обоюдное.
– Правильно. Не задашь, – Иннокентий согласно покивал головой. – Чувство юмора, говоришь? Не слишком ли много оно на себя берет, это чувство? Ведь действительно интересно, так ли он прожил свою жизнь, как хотел? Получил ли все, о чем мечтал? И как менялись его мечты с течением времени и нашел ли он в жизни то, что позволяет считать ее бесконечной? Или до сих пор ищет свою бесконечность? Или – не ищет, уже сложил лапки, плывет к концу с закрытыми глазками? Суди сам, разве не это интересно тебе в старом, забытом друге в первую очередь?
– Пожалуй да, – согласился Саша.
– Правильно, – опять покивал Иннокентий. – А вы будете трепаться о квартирах, машинах, окладах жалованья, бабах, пьянках и так далее по списку.
О чем угодно, только не о том, что интересно. Да и трепаться-то станете только в том случае, если все это у вас примерно одинаковое. А если он, допустим, вылез в миллионеры, то вам и говорить будет не о чем. Потому что его квартиры, машины и бабы с твоими несопоставимы. Другой уровень, как у вас сейчас любят говорить. И останешься ты, друг Саша, только со своим многоуровневым чувством юмора.
– Обычно старые друзья вспоминают прежние времена. В первую очередь, – заметил Саша.
– Сравнивая их с новыми? Или как?
– Сравнивая, – признался Саша. – Горазд ты, Иннокентий, проповеди читать…
Иннокентий, сидевший рядом, вдруг пропал. Саша испуганно заморгал глазами, уставившись на пустое место. Никак он не мог привыкнуть к этим неожиданным штучкам хранителя…
– Это не проповедь. Да и мы не в церкви, не обольщайся, – сказал Иннокентий, появляясь так же неожиданно, как исчез. Только возник он метрах в десяти, прямо на пороге своей избушки. В руке он держал непочатую пачку папирос «Беломорканал».
Ну да, ничего особенного, ничего удивительного, ну, сходил человек за куревом…