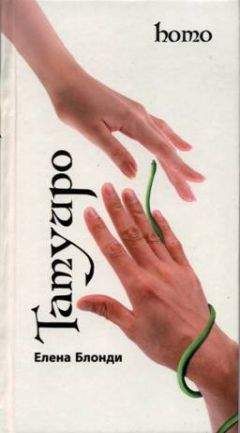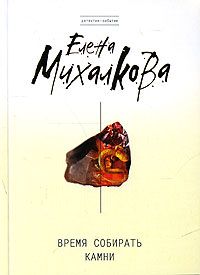Елена Блонди - Татуиро (Daemones)
— У меня на тебя, парень, виды, большие, — говорил ему Яков Иваныч, постукивая по стеклянной столешнице крепкими пальцами, — умник ты и работяга. Толк будет. Если праздник пройдет без заковырок, зарплату прибавлю, вдвое. Считай, стипендия. Работать будешь нечасто, больше учись. Прогуливать школу не дам. Денег буду платить справно, поставлю… на особые поручения. Разок в неделю вызову. Рыбак с тебя хороший, но рыбаков-то много. А вот яхту ты забабахал, хоть завтра закладывай и строй. Сейчас-то сопляк, на подхвате, а дальше, чем черт не шутит, может мне заместителем будешь.
Генка стоял неподвижно, смотрел на стеклянный стол, под которым крест-накрест яшины ноги, в наглаженных брюках и черных ботинках, блестящих, как тараканы.
— Выучишься заочно, через пяток лет с дипломом. Большой человек! Женим тебя… Любую выберешь. А уж счастья я вам обеспечу. Дом — полной чашей, машинка там, хозяйство.
И поднял руку, предупреждая:
— Спасиба не надо, — хотя Генка не думал и рот открывать, — труда вложишь, но то на всю жизнь тебе запасец, а?
И после паузы, наполненной топотом и восклицаниями в коридоре, закончил:
— Иди. Позову, чтоб сразу.
И, остановив голосом в дверях:
— Волосья состричь не хочешь?
— Нет, — сказал Генка одно слово, радуясь, что может его сказать, поперек.
— Ну иди, модник.
За несколько часов Генка помог электрику развесить гирлянды, укрепил цветные фонарики на веранде, перетаскал тетке Насте баки и кастрюли. В спортзале постоял, пока Яков Иваныч распоряжался насчет фотографа. Теперь, как последнее затишье, перед тем, что должно быть. Риту так ни разу не увидал. Возле зала ходил, по коридорам, у закрытых номеров, но все время звали и что-то делал, а потом снова искать шел, к душевым и раздевалкам, к отдельному домику сауны выскакивал, но снова его звали, командовали.
О разговоре в кабинете старался не думать. Иначе умер бы от ненависти. А еще… Гнал от себя, самого себя ненавидя, но картинку про то, как заезжает на черном большущем джипе, в свой двор, с металлическими широкими воротами, и встречает его Рита, вытирая полотенцем руки, улыбается, кормит ужином, а после они спят, прижавшись, каждую ночь вместе, — увидал. Милостив Яков Иваныч. Всем бы ему тогда обязан был. И всю жизнь — на побегушках, в заместителях у барина.
Растрепанные ветром черные волосы щекотали уши, лепились по лицу, а Генка все стоял, держась за кухонную дверь, и думал с отчаянием, все его желания, убить Яшу-сволочь, отомстить за Риту, они все — пшик. Время крутится, визжит, как флюгер на черепичной крыше, и разве можно успеть — приготовиться, найти ружье, спрятать, принести и грохнуть гада. Держа горячей рукой дверную ручку, перебирал возможности, которые упустил, прозевал. Были ли они?
И, уже открывая, пожелал почти одинаково с Яшей — пусть чертов праздник пройдет спокойно, только пусть не случится на нем страшного. Чтоб дальше новые возможности появились!
Заглянув в кухню, кинул ватник на вешалку и пошел коридором в жилую часть здания, настороженно принюхиваясь. Чем дальше от кухни, тем тяжелее и тревожнее стоял вокруг запах. Мелькнула за угол серая тень по полу. Зверь какой-то… Откуда, если ни кошек, ни мышей тут?
66. ДЕЙСТВО
Серый дым шел по коридору, трогая стены мягкими лапами, и там, где оставались его отпечатки, появлялись тени странных насекомых. Переливались бахромой слабые ножки и покачивались, шурша по бамбуковой облицовке, сдвоенные гнутые усики. Наливаясь цветом, твари становились выпуклыми, переползали с места на место и, сделав резкое движение, хватали слабых. Тогда на пол падали кусочки тел, шевелили оборванными ножками. Раскушенные тела пахли резко и от запаха у Генки кружилась голова, а сердце уползало, щекотно прижимаясь к спине, будто и у него — ножки бахромой.
Шел, с тревогой стремясь вперед, по сторонам смотрел невнимательно, отмечая, вот сидит и вот еще поползла. Удивления не было, потому что внутри тоже творилось что-то, по сравнению с чем наружное казалось лишь театром теней.
Посмотрел вдоль коридора и замедлил шаги. Из банкетного зала, через черный зев полуобрушенного входа шли фигуры, придерживаясь истекающей оттуда темной полосы, — в такую же пещеру на месте двери в спортзал. Бухал где-то мерный глухой барабан, блеяли флейты, нестройно и бесконечно. Люди шли наискось от Генки, он видел лишь спины и иногда темные профили мужчин. Сверкали обнаженные колени, а на бугристом полу, где прорастали клубками тугие завитки папоротника и разворачивались, прыская веером душную пыльцу, — оставались обрывки и лохмотья одежды.
К темной полосе Генка подошел, когда спина последнего потно блеснула в свете ламп коридора и исчезла в спортзале. Лампы тускнели на глазах, покрываясь паутиной и порослью вьюнков. Секунду он постоял на краю света и темноты, зацепив взглядом разорванные пополам брюки и рукав рубашки, кусок от яркого платья, смятую сумочку, по которой, поблескивая, переползали с места на место ожившие бусины. И двинулся в темноту спортзала, смахивая со щеки огромного москита. Переступив порог, чуть не упал, и ступил ниже, нащупывая новый уровень пола. В уши толкался мерный барабан. Пожалел, что в кухне отказался от стопки водки, предложенной дядей Митяем. Тот пожал плечами, махнул сам и сразу налил снова. И когда Генка уходил, в двери кухни щелкнул замок, заскрежетало что-то изнутри. Очень хотелось наружу, пока еще мир не изменился полностью. Там — ветер. И звезды. И пусть ветер пахнет чужим незнакомым летом, а звезды толкают в бок ставшую странной, налитую багровым светом луну, но все-таки там — ветер. А здесь… Но здесь — Рита. Она теперь его женщина. Да и всегда была.
В темноте ступил еще на одну ступень, ведущую вниз. Ухнул барабан. Защекотало по ноге и Генка провел рукой, обирая остатки ткани, сбрасывая с себя ненужное. Шел на багровое свечение среди шевелящихся колонн серого дыма, далеко внизу. Свет закрывали черные силуэты, они покачивались, стоя тесной группой, фигуры менялись местами, но не расходились, держась друг друга.
По бокам все шевелилось, тени или животные, а может, новая трава, взломавшая стены, он не приглядывался. Кажется, стояли там смуглые женщины, поблескивало что-то металлом и курился дымок. Серый дым покачивался, меняя очертания, подступал к лицу. Генка задерживал дыхание, но дыма все больше, и, когда легкие запылали, вдохнул. Остановился на подгибающихся ногах, ударенный стуком барабана, раз, другой — и барабан забил мерно, сильно. Сердце, понял он, положив на грудь руку, это мое сердце. Близкие силуэты вздрагивали в такт. Он видел их немного сверху: косматые головы мужчин, чью-то наспех забранную косицу вдоль широкой спины, длиные волосы молодой женщины, укрывшие ее до набедренной повязки, неровные лохмы старухи в пятнах на глазах облезающей краски. И дальше, впереди всех, заслоняя пятно льющегося с луны багрового света, — узел черных блестящих волос, проткнутый деревянной стрелой — на круглой голове с крепкой шеей над мужскими широкими плечами.