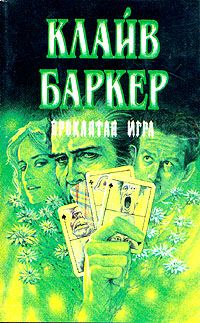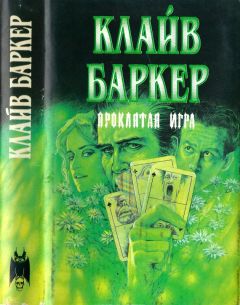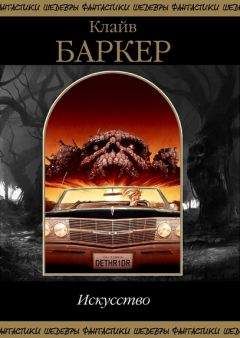Клайв Баркер - Проклятая игра
В уголках его невидящих глаз вспыхивали огни; на миг открывались и тут же исчезали панорамы; солнца рождались и гасли, не успевая отдать тепло или свет. Какое-то раздражение постепенно овладевало им: стремление к безумию. Сдайся, говорило оно, и не придется больше трудиться. Но мысли о Кэрис помогли преодолеть искушение.
Жажда сказала ему: она глубже, чем ты отважишься погрузиться. Гораздо глубже.
Возможно, это была правда. Европеец поглотил девушку целиком, он поместил ее в какую-то бездну, где держал свои любимые вещи. Туда, где находился источник пустоты, выжимавший Марти на Калибан-стрит. Перед лицом этого вакуума он, наверное, съежится; тогда об освобождении не может быть и речи.
Такое место, твердила жажда, такое жуткое место. Хочешь взглянуть?
Нет.
Ну, давай, взгляни! Взгляни и вздрогни. Взгляни и успокойся. Ты хотел знать, что он такое, и сейчас ты увидишь.
Я не слушаю, сказал себе Марти. Он сосредоточился. Как на Калибан-стрит, здесь не было направлений — ни вверх, ни вниз, ни вперед, ни назад, — но он почувствовал, что падает. Действовала ли на него засевшая в голове метафора, представлявшая ад как бездну, или он просто пробирался по внутренностям Европейца к кишечнику, где была спрятана Кэрис?
Конечно, ты уже не выйдешь обратно, усмехнулась жажда. Раз уж попал сюда, обратной дороги нет. Он никогда не извергнет тебя. Ты заперт здесь навсегда.
Но Кэрис вышла, возразил он.
Она была в его голове, напомнила жажда. Она вошла через библиотеку. А ты влез в навозную кучу, и так глубоко, друг мой, страшно глубоко.
Нет!
Точно.
Нет!
Мамолиан помотал головой. Она была наполнена стран ной болью и голосами. Или это прошлое болтает с ним? Да, прошлое; в последние недели оно жужжало и гудело и ушах громче, чем все предыдущие десятилетия. Когда его мозг бездействовал, история притягивала его к себе и он возвращался в монастырский двор. Там падал снег, а справа от Мамолиана дрожал юный барабанщик и паразиты уползали с остывающих тел. Две сотни лет жизни сжались в череду мгновений. Если бы выстрел, сразивший палача, опоздал на пару секунд, топор бы опустился, голова слетела и эти столетия не вместили бы его жизни, как и он не вместил бы их.
Но почему эти мысли вернулись сейчас, когда он посмотрел на Энтони? От событий в монастырском дворе его отделяло сто семьдесят лет и тысячи миль. Мне не грозит опасность, упрекнул он себя, так почему же я дрожу? Брир едва удерживается на краю полного распада; уничтожить его — легкая, хоть и неприятная, задача.
Мамолиан атаковал противника внезапно. Его здоровая рука схватила Брира за горло, прежде чем тот успел отреагировать. Изящные пальцы Европейца вонзились в желеобразную гнилую плоть и сомкнулись вокруг пищевода. Затем Европеец резко дернул руку на себя. Добрая половина шеи Брира оторвалась, потекли жижа и гной. Послышался звук, словно где-то выпустили пар.
Чад с сигарой в зубах зааплодировал. Том перестал хныкать, он тоже наблюдал за битвой из угла, где свалился. Один человек дрался за жизнь, другой — за смерть. Аллилуйя! Святые и грешники, все вместе.
Мамолиан отбросил слизистый ком плоти. Несмотря на страшные увечья, Брир устоял.
— Разорвать тебя на куски? — спросил Мамолиан.
Едва он заговорил, как что-то в нем зашевелилось. Девушка все еще противилась заточению?
— Кто там? — мягко спросил он.
Кэрис ответила. Не Мамолиану, а Марти.
«Здесь», — сказала она.
Он услышал. Хотя нет, не услышал — почувствовал. Она призвала его, и он последовал за ней.
На его жажду это не произвело впечатления. Слишком поздно, чтобы помочь ей, подсказывала жажда. Слишком поздно для всего.
Но Кэрис была уже близко, Марти знал это; ее присутствие прогнало панику. Я с тобой, говорила Кэрис. Теперь нас двое.
Жажда не унималась. Она высмеивала мысли о побеге. Вы пойманы здесь навсегда, твердила она, лучше смириться с этим. Если она не в силах выйти, как сможешь ты?
«Двое, — сказала Кэрис. — Теперь нас двое».
В момент самого сильного сомнения он понял смысл ее слов. Они вместе, и вместе они больше, чем просто сумма из двух частей. Он думал об их соединявшихся телах: физический акт был метафорой другого единения. Он не понимал этого до сих пор. Его разум восторжествовал. Она была с ним — он с ней. Они стали одной невидимой мыслью, думая друг о друге.
«Идем!»
И ад раскололся — у него не осталось иного выбора. Все вокруг распадалось на куски, пока они вырывались из плена Европейца. Они пережили несколько чудесных мгновений существования в едином разуме, а затем вступила в свои права сила тяготения — или какой-то другой закон, действовавший здесь. Произошло разделение — жестокое изгнание из недолгого Эдема, — и они понеслись к своим собственным телам; слияние завершилось.
Мамолиан ощутил их бегство как рану более тяжелую, чем любая из нанесенных Бриром. Он прижал палец к губам; жалобное выражение появилось на его лице. Брир воспринял это как сигнал; его миг настал. В разжиженном мозгу сама собой возникла картина, подобная одной из старых фотографий его альбома, но живая: падает снег, языки пламени пляшут над жаровней.
Мачете в его руке за секунду стало тяжелым, как топор. Он поднял лезвие — и его тень упала поперек лица Европейца.
Мамолиан взглянул на распадающиеся останки Брира и узнал их; он понял, к чему все шло. Сгибаясь под грузом лет, он тяжело рухнул на колени.
В то же мгновение Кэрис открыла глаза. Возвращение было мучительным; Марти пришлось еще труднее, чем ей, привыкшей к таким вещам. Однако это всегда неприятно — чувствовать, как Мускулы и мясо сковывают дух.
Глаза Марти тоже раскрылись, и он взглянул на тело, в которое вернулся. В этом теле было тяжко и душно. Большая его часть — кожа, волосы, ногти — представляла собой мертвую материю. Собственный организм вызвал у Марти отвращение. Пребывание в нем казалось пародией на только что испытанную свободу. Он пошевелился с легким стоном омерзения, словно проснулся и обнаружил, что покрыт насекомыми.
Чтобы обрести уверенность, он поискал глазами Кэрис, но ее внимание было приковано к некоему зрелищу. Марти не мог его видеть из-за прикрытой двери.
Картина, представшая взору Кэрис, показалась ей знакомой. Но точка обзора теперь изменилась, и потребовалось время, чтобы распознать сцену: человек на коленях, его шея открыта, руки чуть раскинуты, пальцы вывернуты в универсальном жесте подчинения; палач — лицо его смазано — поднимает лезвие, чтобы обезглавить ожидающую жертву; кто-то смеется рядом.