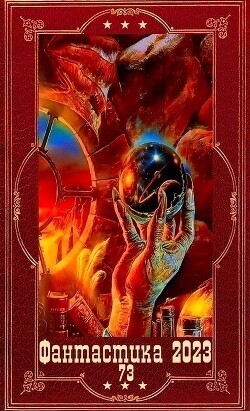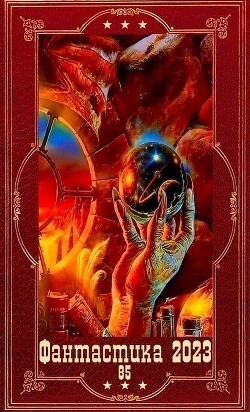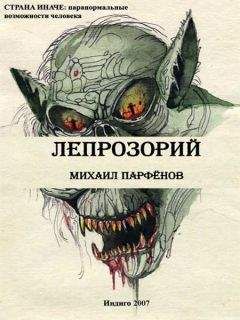Самая страшная книга 2024 - Тихонов Дмитрий
Злость нахлынула на меня, сметя и уничтожив жалость и трусость, оставив лишь омерзение.
– Да вот же, вот! – Я схватил его за загривок и развернул, словно тыкая носом в картину перед ним. – Вот лестница, вон дверь, они там.
Критик попытался вывернуться, но я держал его крепко, впиваясь пальцами в дряблую кожу.
– Там ничего нет! – заскулил он. – Ты же видишь, там ничего нет, один асфальт! Зачем ты так шутишь?
Мне это надоело. Наверное, стоило плюнуть, бросить его там и уйти – но во мне взбурлило какое-то ребяческое желание доказать свою правоту.
И я потащил его к двери.
До лестницы он почти не упирался, лишь сопел, будто пытаясь понять, что я собираюсь сделать.
Но, когда я ступил на первую ступеньку и начал спуск, он завопил. Я обернулся и увидел, как еще больше выпучились его глаза, как пот покрыл его лоб, словно масло. Он вопил, не двигаясь с места, с ужасом глядя на свои ноги, стоящие на первой ступеньке.
– А-а-а-а-а-А-А-А-ааааА-аАааа! – Вопль то взлетал вверх, отражаясь от стен, усиленный эхом, то падал до сдавленного хрипа, но потом, с глотком воздуха, вновь обретал силу. – А-а-аааАААаа-аааааААА!
Я быстро обвел взглядом дома: не слышит ли его кто? Но здесь ведь не было окон, и глухие стены были вдобавок и слепы. За маленькой аркой, ведущей из подворотни на улицу, гулко шумел город – и все звуки тонули в этой вязкой, липкой чужой жизни: рокоте машин, шуршании шин по асфальту и неразберихе человеческих разговоров. Здесь же было тихо – и лишь где-то там, наверху, к небу, отскакивая от стен, как шарик пинг-понга, устремлялся теперь уже тихий вой.
Я крепче сжал пальцами его шею и сильно встряхнул. Вой прервался, кинокритик захрипел.
– Не ори… – процедил я сквозь зубы.
– Что с моими ногами?! – сипло застонал он. – Что с ними? Что?!
Он начал причитать, глядя вниз. Я тоже бросил туда взгляд. С его ногами было все в порядке – грязные, истоптанные, в каких-то опилках, кеды стояли на потрескавшемся камне ступенек. Дальше шли потертые джинсы – когда-то модно потертые, а теперь истреханные так, словно их владелец долго ползал по камням.
– Все в порядке с ногами, – зло огрызнулся я. Во мне опять начала закипать ярость: как тесто, поднимающееся на батарее, она пухла и пухла, вытесняя все рациональные мысли, логику, здравый смысл. Мне нужно было оставить кинокритика в покое, бросить его наедине с истерикой, уйти и не оглядываться никогда. Но эта ярость вцепилась в то самое ребяческое желание доказать свою правоту – и ужесточила его.
Я потащил критика вниз, ступенька за ступенькой, впиваясь пальцами в его загривок. Вой взметнулся еще выше, достиг ультразвука, с крыш сорвались встревоженные голуби, что-то лопнуло и треснуло там, наверху, в небе, будто прорвался огромный пузырь… а потом я понял, что это всего лишь игра отраженного эха – лопнуло и треснуло внизу, у меня под ногами.
И тут же кинокритик осел – как опадает вздувшееся тесто. Он издал последний истошный вопль и захлебнулся им, свернувшись клубочком на пыльных ступенях.
– Что? – Я наклонился над ним. Критик трясся мелкой дрожью, его глаза остекленели, а губы едва шевелились. Я склонился еще ниже, чтобы расслышать, что он говорит.
– Асфальт… – бормотал он. – Асфальт… давит… ноги давит… везде давит… дышать…
Он начал задыхаться, хватая воздух ртом, – но грудная клетка не поднималась, словно сдавленная чем-то, и воздух выплескивался обратно, вытекая из губ.
– Эй?.. – Я присел на корточки, пытаясь понять, что происходит. Сердечный приступ? Приступ паники? Наркоманский приход? – Эй… – Я схватил его за плечо и потряс.
И плечо провалилось. Смялось, сдавилось, как мнется и сдавливается старый картон, с тихим шорохом и хрустом. И так же сплющилась грудная клетка. И ноги – теперь-то я понял, что же именно лопнуло и треснуло тогда, минуту назад, – ноги критика тоже были сплюснуты и сломаны, будто что-то сдавило их, будто их переехала машина, или раздавила каменная плита, или…
– Затащил… меня… давит… – вытек из губ критика сип. – В асфальт втащил… давит…
Дверь за моей спиной скрипнула, открываясь.
– Я не ждал его, – прозвучал за моей спиной бархатный бисквитный голос. – Он не зван на ужин.
И, сам не понимая, что происходит и зачем я это делаю, я шагнул в дверной проем. Оставив критика хрипеть и корчиться на ступенях, раздавливаемого и размазываемого воображаемым асфальтом.
– Мне нужно вызвать скорую, – безразлично сказал я, кивнув в сторону закрывшейся двери.
– Зачем? – так же безразлично полуспросил-полуответил хозяин ресторана, пододвигая мне стул.
– Он что-то принял, – объяснял я, изо всех сил надеясь, что мне скажут: «Не надо, все в порядке, он уже ушел». – Что-то психотропное. Я так понял, что он думает, будто его раздавил асфальт.
– Вполне вероятно, – кивнул хозяин, присаживаясь. – Он видел, что тут ничего нет, что тут вместо спуска и лестницы – сплошной заасфальтированный двор. Он же говорил вам это, не так ли? А вы потащили его вниз. С его точки зрения, вы втащили его в глыбу асфальта, которая на мгновение расступилась и поглотила его. Неудивительно, что ему… несколько некомфортно.
– Откуда вы это знаете?
Он приподнял бровь без тени улыбки:
– Предположим, что тут недалеко пролегают разнообразные коммуникации, достаточно ветхие, чтобы появилась утечка. Разные летучие соединения смешиваются, и полученная смесь влияет на психику некоторых бедолаг.
– Одинаково? – уточнил я. Это предположение мне нравилось достаточно, чтобы я не стал подвергать его анализу на достоверность и логику.
Он приподнял вторую бровь:
– Химические процессы в человеческих организмах протекают в общем и целом одинаково, не исключая таковые в мозге. Почему бы и психотропной газовой смеси не воздействовать на тех, кто подвержен ей, одинаково?
Его слова были слишком гладкими, а фразы – по-ученому неестественными, как бывают неестественны на прилавках булочных караваи из папье-маше: гладкие, аккуратные, симметричные и блестящие. Но почему-то именно этим они и успокаивали.
– А почему я ничего подобного не ощутил?
Я подозревал, что и сам знаю ответ, но мне хотелось услышать его от хозяина ресторана.
Тот пожал плечами и сказал именно то, что я хотел, – именно теми словами, которые были мне нужны:
– Значит, вы не подвержены ей. Не надо, все в порядке, он уже ушел.
И эта короткая фраза успокоила меня, и омыла, как омывает горячая вода тарелки в посудомоечной машине, и смыла остатки злости, ярости и омерзения. И я стал готов к принятию пищи.
На этот раз меня качала на крыльях наслаждения паровая форель с зелеными овощами. Кенийская фасоль, салат бок-чой, брокколи и брюссельская капуста слегка похрустывали, создавая во рту ощущение весны, – и при этом не забивали мягкость паровой форели.
«…Не забивают мягкость паровой форели, – сделал я пометку в памяти, чтобы в нужный момент выудить оттуда и поместить в хвалебную – а какой же ей еще быть! – статью об открытии этого ресторана. – Белое вино гави своим базовым фруктовым вкусом и тонкими нотками миндаля весьма органично вписывается в этот весенний концепт».
Когда я вышел из двери, на ступеньках уже никого не было.
– Ушел? – спросил я, ни к кому не обращаясь.
Разумеется, никто и не ответил.
– Так когда же вы открываетесь? – спросил я через месяц. Спросил скорее для поддержания разговора, для того чтобы прервать тягучее молчание, – хозяин ресторана безмолвно открыл дверь, так же безмолвно пригласил за стол и все еще не проронил ни звука – и, мне казалось, даже не дышал. Лишь смотрел на меня, слегка наклонив голову набок и моргая через раз.
Меня потчевали тонко нарезанными сырыми лангустинами с гранитой из зеленых яблок в обрамлении песто из зелени и яблочного сока, судя по всему, замороженных и пробитых в пюре, а также салатным миксом.
«Крепкий фриуланский совиньон с двойственным характером майских заморозков – идеальная пара для блюда», – снова помечал я в голове в предвкушении статьи – да потребуется не одна колонка, а две, три! – в честь открытия ресторана.