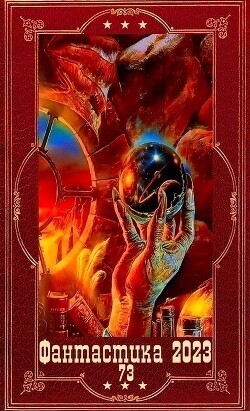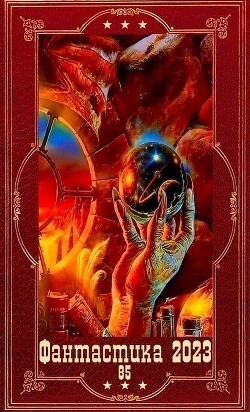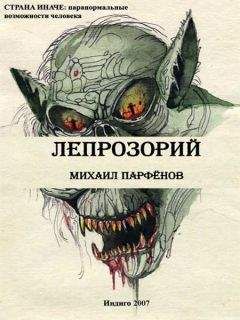Самая страшная книга 2024 - Тихонов Дмитрий
– Вы хотите сказать, что я самолично зарезал этого барашка утром, чтобы подать его вам сейчас?
Я мрачно взглянул на него.
– Ну что ж, может быть, вы и правы, – продолжил он.
Повисло молчание.
– Кушайте, – сказал он. Это старомодное слово будто ссыпалось с его губ и, шурша, проползло по столу, чтобы подтолкнуть меня под локоть. Я протянул руку и поднял вилку со скатерти. На кипенно-белой ткани осталось пятнышко маринованных баклажанов.
– Извините, – сказал я.
Он сделал небрежный взмах рукой. Рукав серого пиджака был похож на змею, которая пытается загипнотизировать кролика.
Я взглянул на натюрморт перед собой – и совершил ужасающее кощунство. Но как упоительно оно было!
– Жду вас завтра, – традиционно сказал хозяин ресторана, когда я был уже на пороге. И неожиданно добавил: – Завтра в меню кролик.
Никогда до этого он не раскрывал секрет будущих блюд. Я замер, ожидая, не скажет ли он что-нибудь еще. Но он молчал, будто последние четыре слова вырвались помимо его воли. А может быть, и вообще не принадлежали ему.
Уже за дверью я резко обернулся и глянул в быстро закрывающуюся щелочку. Там, за плечом серого пиджака, что-то расплывчатое, словно дрожащее марево воздуха, сидело на белоснежной скатерти и жадно слизывало пятнышко маринованных баклажанов.
– Змеи не гипнотизируют кроликов, – мягко произнес бархатный бисквитный голос. – Это миф.
Я поднял взгляд на хозяина ресторана. На краю поля зрения дрожащее марево метнулось со стола и втянулось в дверь кухни.
Кинокритика я увидел через пару недель. Я не узнал его поначалу – а потом еще долго не хотел признавать, борясь со стыдом, что нас увидят вместе.
Он сидел на лавочке – тощая, согбенная фигура, в обвисшей, не по размеру одежде – и жадно жрал. Еще на расстоянии доброй сотни метров я почувствовал этот узнаваемый, такой одновременно и притягательный, и отвратительный запах жареного беляша. Человек на лавочке жрал, глотал крупными кусками беляш, приканчивая его в три-четыре приема, а потом обсасывал жирные пальцы – и хватал новый, из пакета рядом. Он даже не жевал, просто отрывал зубами шмат теста с фаршем, а потом делал глотательное движение, запрокидывая голову, как пьющий голубь, – дергал кадыком и снова отрывал, запрокидывал, дергал кадыком… Амбре беляшей расходилось от его лавочки, как тяжелое, душное грозовое облако. Я задержал дыхание и хотел обойти его – но он заметил меня.
Заметил, узнал и позвал по имени.
А я все равно не узнал его.
– Же не манж па сис жур, – вдруг сказал он и дробно захихикал, словно в попкорн-автомате лопались зернышки кукурузы.
И тогда я понял, кто он.
Я не сдвинулся с места – лишь смотрел на него, тощего, дерганого, с затравленным взглядом, с лицом, руками, волосами, измазанными жиром и маслом. Я помнил его элегантным, с небольшим брюшком и пухлыми щеками – сейчас же кожа обтягивала череп, подчеркивая не только выступившие скулы и надбровные дуги, но кажется, за тонкими губами можно было проследить и линию десен.
Критик потянулся было ко мне, но тут же отшатнулся обратно, нащупал рукой пакет с беляшами – осталось лишь два упругих пирожка, – выхватил один и впился в него, злобно зыркая на меня, будто я мог отобрать еду.
Я тоже сделал шаг назад – от вспыхнувшего чувства стыда, что меня заметят рядом с ним, с этим тощим… я не мог подобрать слова. Его нельзя было назвать оборванцем, несмотря на явно несвежую и заляпанную пятнами одежду, нельзя было назвать и бомжом, потому что от него не шел специфический, профессионально узнаваемый запах мочи и перегара, его нельзя было назвать… никак иначе, чем просто очень голодным существом. Потерявшим человеческий облик, превратившимся в какое-то подобие животного.
Я вспомнил, как презрительно-небрежно, двумя пальцами он брал тарталетки на общих корпоративах, как рассматривал на свет сок в пластиковых стаканчиках – всем своим видом показывая пренебрежение и пресыщенность. И вот сейчас он глотает, не жуя, дешевые беляши на прогорклом масле из ближайшего киоска.
Беляши закончились. Кинокритик взглянул на пустой пакетик жалобным взглядом – а потом быстрым, практически неуловимым движением всосал его в рот. Погонял между щеками, слизывая последние капли жира, – и выплюнул на пыльный асфальт полиэтиленовый комок.
А потом поднял взгляд на меня.
На одно мгновение в этих бесцветных пустых глазах мелькнуло что-то, от чего у меня мороз продрал по позвоночнику, закололо в висках и на кончиках пальцев. На это самое мгновение мне показалось, что меня окунуло в безумный, невозможный, немыслимый голод. Мне почудилось, что где-то там, глубоко в своей голове, в самых немыслимых фантазиях, критик расчленяет меня, перекручивает, перерабатывает в фарш – и печет, печет, печет со мной беляши, которыми никак не может насытиться.
– Они переехали… – Его рыдающий голос булькал, словно пузырьки в перестоявших соленьях. – Они переехали, и я не знаю куда.
– Кто – они?
Я не понимал его и, честно говоря, еще больше не понимал, зачем разговариваю с ним. Какая-то странная жалость мешалась во мне с омерзением и трусостью – мне казалось, что бежать от бывшего коллеги, пусть даже и настолько опустившегося, позорно, не соответствует какому-то кодексу чести: то ли журналиста, то ли человека вообще.
– Они! – выдохнул он густым амбре беляша, метнулся с лавочки вперед и вцепился мне в свитер. – У них ведь даже еще не было названия, они не придумали его, ха-ха, да и зачем оно им, они ведь одни такие, одни во всем городе, да что там городе – во всей стране, всем мире, говоришь «еда» – подразумеваешь их…
Его взгляд затуманился, и он стал мелко трясти головой, словно силясь выплюнуть какую-то косточку.
– Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста, – заперхал он фразами. – Была докторская, стала любительская. В сущности, зачем вам «Особая краковская»? Для чего вам гнилая лошадь?
Из его рта потекла ниточка слюны, смешанная с пережеванными тестом и фаршем.
– Зачем же непременно лапшу? Не надо лапшу. А хоть бы и лапшу, тоже очень неплохо! – прохлюпал он.
Я понял, о чем идет речь.
– Они не переехали. Я там был вчера, они на месте.
Кинокритик вздрогнул. На мгновение мне показалось, что его глаза вот-вот выскочат из орбит, – настолько сильно он выпучил их. Будто что-то вздулось в его голове от моих слов и пыталось пробиться наружу.
– К-как на месте?! – прохрипел он.
Костлявые пальцы сгребли мой свитер в горсть, ногти царапнули по футболке под ним.
– К-как на м-месте?.. – Его голос словно сел, звучал так, будто по сковородке скребли деревянной лопаткой. – Я н-неделю ищу их, но их н-нет.
– Они на месте, – твердо и терпеливо повторил я, взяв его тощее запястье и пытаясь освободить свой свитер. Но критик цеплялся за него так, точно тонул в глубоком болоте, а этот кусок вязаной ткани стал его единственным спасением. А может, так оно и было. – Ничего не изменилось.
– Веди! – Пальцы сжались в кулак и потянули свитер на себя с такой силой, что ворот впился мне в шею. – Туда! К ним! Быстро!
Критик выплевывал слова, словно шкворчащее на сковородке масло, в которое плеснули воды. На мгновение я пожалел о сказанном, но тут же сожаление сменилось живейшим интересом: что будет дальше?
И я повел его.
– Ты шутишь? – зло спросил критик, когда я подвел его к лестнице вниз, к цоколю.
– Нет, – указал я на дверь. – Вот же они. Разве ты не сюда приходил? Ты назвал мне этот адрес.
– Здесь ничего нет. – Он внимательно посмотрел на меня, а потом приблизил свое лицо к моему так близко, что казалось, моргни он своими белесыми ресницами – и заденет мои веки. – Ничего нет, ничего, ничего, ничего…
Он снова забормотал, глядя на меня выпуклыми бесцветными глазами.
– Ничего нет, ничего, ничего…
А потом вдруг клацнул зубами.
Я успел отшатнуться, сделать шаг назад – и лишь поэтому не лишился кончика носа: на мгновение мне померещилось, что верхние резцы у критика остро заточены.