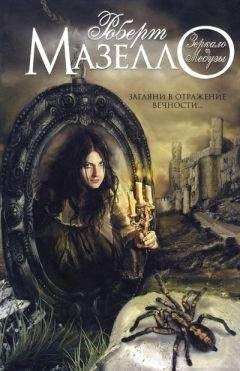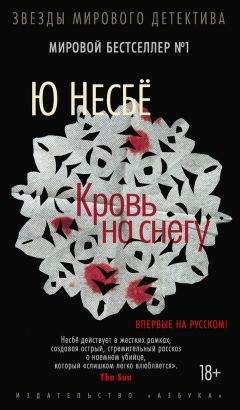Роберт Мазелло - Кровь и лед
Водяные брызги барабанили по векам тысячами крошечных дождинок и струйками стекали по шее и груди. Элеонор осторожно шагнула вперед, подставив под теплый поток макушку, и ее длинные каштановые волосы заструились по щекам. Это было одним из самых приятных ощущений, какие ей доводилось испытывать в жизни. Какое-то время она стояла неподвижно по щиколотку в воде, опершись ладонями о белый кафель, и думала, что так, наверное, ощущают себя листочки чая, когда их настаивают в заварном чайнике. Впервые за столетия она ощутила тепло всей кожей, всем телом. Но что, если она будет продолжать стоять так и дальше, и вода не прекратит течь? Сможет ли в конце концов тепло проникнуть до самого сердца и унять неизбывную боль, которая сопровождает ее целую вечность?
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
17 декабря, полночь
Когда Синклер подъезжал к церкви, на ней вовсю звенел колокол — из-за ветра, который раскачивал язык. Это помогло упряжке отыскать верное направление в буране. В окружении своры лающих собак он вошел в зал, пошатываясь под тяжестью взваленного на плечи тюленя, а спустя мгновение увидел, что дверь в комнатку пастора распахнута. Свалив тюленя на алтарь, он шагнул к двери комнаты и заглянул внутрь.
Огонь в печи потух, а Элеонор исчезла.
Некоторое время он просто стоял в дверном проеме, облокотившись о косяк, и пытался отдышаться.
Возможно, хотя и маловероятно, что она нашла способ открыть засов и сбежать. Но куда? Да и зачем?
— Элеонор!
Он звал ее снова и снова, но ответом было лишь дружное тявканье лаек, которые разбрелись по всему залу. Синклер ураганом взлетел по ступенькам на колокольню и стал всматриваться в снежную завируху, но метель была такой сильной, что он едва видел склады и ангары у подножия склона. Даже если бы он и отважился отправиться на поиски спутницы, в такую чудовищную пургу у него не было ни единого шанса сориентироваться на местности и придерживаться какого-то строгого курса. Если Элеонор сбежала, он не найдет не только ее, но и обратной дороги к церкви.
Ничего не оставалось делать, кроме как ждать. Ждать, пока стихнет буран. Хоть и неприятно было это признавать, но Элеонор действительно могла совершить что-то опрометчивое и непоправимое, могла бросить борьбу и предпочесть мучительной жизни смерть. Синклер видел ее отчаяние, которое в общем-то и сам испытывал, но сердце отказывалось верить в то, что она могла пойти на самоубийство. Он быстро осмотрел их скромный приют, выискивая любые признаки, которые указывали бы на то, что она с ним попрощалась, например, сообщение, набранное из букв, вырванных из страниц псалтыря, но не обнаружил ничего примечательного. По правде говоря, он был уверен, что Элеонор, какие бы душевные переживания на нее ни нахлынули, не стала бы с ним так поступать. Она не исчезла бы без предупреждения. Синклер слишком хорошо ее знал, поэтому быстро отмел такую вероятность.
А раз так, то оставался последний вариант — Элеонор пленили.
Увели против воли.
Вполне возможно, что за время его отсутствия сюда нагрянули люди из лагеря и увезли ее насильно. К сожалению, все следы, которые захватчики могли после себя оставить снаружи, замело снегом, да и отпечатки ботинок на полу церкви также не просматривались ввиду того, что стая мокрых собак порядочно наследила. Но кто, как не люди из лагеря, мог ее похитить? Тем более что, кроме как в лагерь, Элеонор увезти отсюда попросту некуда.
Из всего этого вытекал главный вопрос, к которому так или иначе приводили размышления, — как наиболее эффективно провести спасательную операцию?
Она была сопряжена с серьезными трудностями, но положение усугублялось тем фактом, что он совершенно не представлял их конечной цели. Допустим, ему удастся-таки отыскать Элеонор и вызволить из плена, но где потом на этом скованном льдом континенте они будут искать убежища? Синклера охватило полнейшее отчаяние, точь-в-точь как в то ясное октябрьское утро в Балаклаве; сейчас он ощущал себя словно на краю пропасти. Впрочем, он быстро напомнил себе, что успешно пережил тот апокалипсис, как и прочие, даже более драматичные моменты жизни. Какими бы мрачными ни были некоторые страницы его биографии, Синклеру всегда удавалось их перевернуть и начать жизнь с чистого листа.
Тем более что на его стороне есть некоторое преимущество, мрачно рассуждал он.
Перед Синклером стояла кружка свежей тюленьей крови, точно кубок с кагором, а рядом лежал томик поэзии, который путешествовал вместе с ним из Англии в Крым, а теперь вот сопровождает в ужасной ледяной глуши. Он открыл книгу на первой попавшейся странице — бумага пожелтела и сделалась жесткой, как пергамент, — и начал читать…
Одни, один, всегда один,
Один среди зыбей!
И нет святых, чтоб о душе
Припомнили моей.
Так много молодых людей
Лишились бытия:
А слизких тварей миллион
Живет; а с ними я.
Любого другого человека подобные строки ввергли бы в еще большее уныние, но ему они были как бальзам на душу. Кажется, только поэт понимал весь ужас положения, в котором Синклер оказался.
Собаки завыли, и Синклер отрезал сала от лежащего на столе тюленя и швырнул куски в проход. Лайки с громким лаем, усиленным эхом, бросились к подачке, царапая когтями по каменному полу и оттесняя друг друга от еды.
С высокого стула позади оскверненного алтаря Синклер обвел взглядом свои пустые владения. Он представил китобоев, которые некогда сидели на этих лавках. Их лица перемазаны жиром и сажей, а на грязных одеждах темнеют пятна засохшей крови. Мужчины теребят в руках шапки, а их взоры устремлены к этому самому алтарю, где священник рассказывает им о прелестях загробной жизни и несметных богатствах, ожидающих на небесах в качестве компенсации за тяготы и лишения, которые они испытывают каждый день. Китобои сидят в Богом забытой церкви с простым и грубо выструганным распятием, посреди ледяной пустыни, окруженные площадками для разделывания туш, варочными котлами, горами потрохов и костей, и слушают сказочки про белые облака и золотистое сияние солнца, про безграничное счастье и вечную жизнь. Про царство, в котором не будет места смердящим живодерням, и… Синклер задумался. В общем, кто его знает, какую там еще лапшу им вешали на уши.
В этом смысле китобои мало отличались от Синклера, которого тоже оболванили басенками про славу и героизм. Когда лейтенант лежал на соломенном тюфяке в казарменном госпитале, снедаемый нарастающим и совершенно необъяснимым желанием, он совершил поступок, о котором впоследствии сожалел очень долго, но уже не мог ничего исправить. Жажда крови, проявившаяся после укуса дьявольского создания на поле брани в Балаклаве, оказалась неодолимой, и он набросился на лежащего по соседству шотландца, беспомощного и слишком слабого, чтобы сопротивляться.