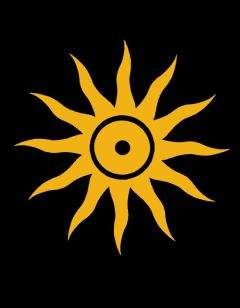Максим Асс - КОШМАРЫ
Он сидел, опустив слегка свою большую облысевшую голову, и пристально, с жутким вниманьем, смотрел в пол, словно он увидел там что-то такое любопытное, от чего он не в силах был оторваться.
И то, что он сидел так и так смотрел, было до того необычно, что Грушенька, несмотря на страх, который ее никогда не оставлял, раскрыла дверь шире и вошла.
— Василий Иваныч, что с вами?
Голос у нее задрожал, осекся и прозвучал слабо и робко. Тем не менее, он услышал и поднял голову.
Его бледно-голубые выцветшие глаза были мутны и покрыты какой-то пленкой, и некоторое время он смотрел так, словно бы не мог понять, кто перед ним.
Потом пленка исчезла.
— Болен! — коротко и хрипло сказал он.
И посмотрел ей в лицо. И вдруг в глубине его глаз появился и стал загораться знакомый ей, пугавший ее всю жизнь, тихий, сосредоточенно-злобный, насмешливый блеск.
— Рада? — медленно спросил он. — Да уж, рада!..
Молчи, сам вижу... Но, погоди... Авось, не сразу еще помру... авось, еще будет время нам покалякать...
И крикнул грубо, словно хлыстом ее ударил:
— Ну, марш за врачом!.. Стоишь тут!.. Уставилась, как новорожденная овца!.. Пшла!..
Грушенька заметалась и бросилась к двери...
Врач, пожилой человек с мягкими седыми волосами и широким, толстым мягким носом, долго выслушивал и выстукивал Стахова, мял ему грудь, ноги, живот. И все то время, что он проделывал это, Стахов не сводил с него тяжелого воспаленного взгляда и думал о том, что люди с такими, как у доктора, мягкими глазами обыкновенно бывают в жизни очень добродушны. И у него была надежда, что все окажется пустяками, потому что не может же такой человек сказать в лицо, что пришла смерть.
Но доктор, покончив с осмотром, сказал что-то очень неопределенное и в этом неопределенном хотя и не было приговора, — не было ничего и утешительного.
И, прописав несколько рецептов, доктор ушел, пообещав зайти еще.
III.
В первые дни, однако, Стахова надежда еще не оставляла и он все ждал, что вот-вот что-то сделается с ним неожиданно во сне, и он откроет однажды утром глаза и болезни не станет, и все будет по-прежнему.
И оттого, что он надеялся так и ждал, ему нравилось делать вид, что он умирает и говорить с Грушенькой о своей смерти.
Он лежал, укутанный по подбородок одеялом и глубоко запрятав голову в подушки, так что Грушенька видела одни его светлые, насмешливые и злые, скучающие глаза.
— Такие-то дела, Груша, — говорил он, — не стало жизни!.. Тебе, чай, и не снилось, что это может случиться так, вдруг, а оно вот никого не спросилось, подступило и капут!.. Сколько ты за это одних свечей разным угодникам поставишь?..
Глаза его суживались, он пристально, с кривой усмешкой, вглядывался ей в лицо, потом вздыхал:
— Бессловесная ты... Кроткая и бессловесная!.. Я так думаю, что ты еще, пожалуй, заплачешь, как помру!.. Я вот смотрю на тебя и все думаю, что, может, вся жизнь твоя другая была бы, коли б ты была не такой... Потому что кротких и бессловесных всегда мучить хочется... Верно тебе говорю... В детстве я собачку такую имел, вроде тебя, тоже тихую и безгласную...
Бывало, только цыкнешь на нее, даже только подойдешь, а она уж на спинку опрокинется, лапочками дрыгает, хвостиком виляет... Стегал я ее тоненьким ремешком по животу и частенько долго стегал, а у нее только глаза нальются слезами, но укусить — ни за что не укусит... Точь-в-точь, как ты... Н-да... Не сладка, поди, жизнь твоя была со мной?... Да уж сам понимаю — что говорить!.. А вот не пляшешь же ты, что умираю!..
Вот какая ты, Грушенька!..
— Да ведь и то сказать, — добавлял он, помолчав, — и моя жизнь была не слаще... Разочти-ка... Сузила ты для меня ее, Грушенька, жизнь — то и тащился я с тобой, как с тяжелым ядром на ноге... Не хочу грешить и лгать — не любил я тебя!.. М-да... Слышал я, что к тебе вот опять странники ходить стали, шепчешься ты с ними, на вериги их, выпучив глаза, смотришь... А я, ведь, пожалуй, почище твоих странников выйду, потому что таких вериг, как я, никто бы из них на себя не взвалил... Так-то оно... Ну, пошла, надоела!..
Ум у Грушеньки оставался первобытным, темным и суеверным, и иногда ночью, во время припадков удушья, Стахов будил ее и, когда припадок проходил, начинал ее пугать, как пугают детей, и наслаждался ее страхом.
Он приподымался вдруг на локте, дико глядел в темноту за окном и спрашивал:
— Что это?.. Кто это звонит?.. Слышишь звон?..
Грушенька бледнела.
— Это по мне... По мою душу!.. Иди, беги, чтоб перестали... Беги!..
Перепуганная насмерть, Грушенька подымалась, дрожа и, сама не зная для чего, делала шаг к двери.
Он схватывал ее за руку.
— Стой... Куда пошла?
И с ненавистью принимался глядеть на нее.
— Куда шла, блаженная? О чем думала, когда шла?
Слышала ты звон?
— Н-не...
— А коли «не», то к чему шла?.. Я, может, целый час лежал и все думал, чем бы тебя попугать... А ты сразу и пошла... Теперь уж вижу, что ты и впрямь в мою смерть веришь и ищешь ее!..
А через десять минут он уверял ее с вытаращенными глазами, что видит за окном что-то белое, что это смерть за ним пришла, и хрипло кричал, что он не хочет умирать, что нужно прогнать смерть, и щипал Грушеньку за то, что она не двигалась с места.
Он рисовал план ада и показывал ей там уголок, который ему отведут. Потом садился в угол постели и нахлобучивал себе подушку па голову.
— Я уже умер, — мрачно говорил он, — и смотрю на тебя теперь с того света!..
И кричал громовым голосом:
— Покайся, окаянная!
Грушенька дрожала.
Несмотря на то, что болезнь шла вперед гигантскими шагами, несмотря на то, что удушье мучило Стахова все сильнее, и он каждые полчаса требовал подушку с кислородом, во время коротеньких промежутков он мучился тем, что должен лежать, прикованный к постели, мучился своей бездеятельностыо, тоской и скукой, и придумывал все новые и новые жестокие забавы.
Раз он подозвал Грушеньку к постели и, глядя на нее мутно и без выражения, как ослепший, стал испуганно бормотать, беспомощно поводя по воздуху руками:
— Где ты, Грушенька?.. Я тебя не вижу!..
Он трогал руками ее лицо, больно мял щеки, нос, уши и все спрашивал:
— Где же ты?... Где ты?
Он впился отросшими ногтями ей в руку так, что у нее выступила кровь.
— Где же ты?..
В другой раз он сумрачно сказал ей:
— Ежели ты думаешь, что как я умру — так тебе настанет свобода, — не думай!.. Я, брат, тебя и потом не оставлю... Ни за что... Я уж придумал...
— Что? — пролепетала она, глядя на него во все глаза.
— Ходить к тебе буду! — весело и возбужденно сказал он.