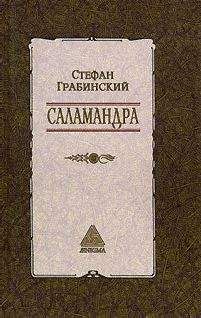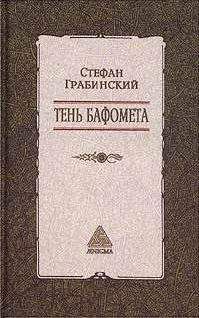Демон движения - Грабинский Стефан
Яворовый остров дремал. Заключенный в водные объятия раздваивающейся реки, частично занесенный по краям илом, наглухо заросший по обрывистым берегам сорняками и бурьяном, ощетинился колючками терна, насторожил хищное плетение шиповника и ежевики.
Пополуденный жар июньского солнца еще дрожал раскаленными волнами, но уже неспешно ослабевал. Сменяя его, на землю мягко опустилась ленивая томная сонливость, погрузив в оцепенение далекие села, легла на поля, пастбища, окутала дремотной скукой реку и остров. Воды бормотали приглушенным журчанием, мягко набегая на берег островка; тайным шепотом нарушал тишину теплый ветер, что на тонких крыльях веял откуда-то из-за бора и проникал слабым, запыхавшимся дыханием под замершие деревья...
- 51 -
Ш-ша... ш-шш... из бора посвист несется — шепелявит осина, шелестит сивая листва... ш-шш... в трухлявом дупле светит ржавый нарыв гнилушки... ш-ша!.. ш-шш!.. — посвист ветра несется...
Зашуршали верхушки яворов, заскрипели хрипло... ветер стихал где-то в ольховой чаще...
В центре островка меж густых зарослей белела хата. Покрашенные в бледно-синий цвет стены сверкали на солнце черными лоснящимися стеклами окон. Под навесом на завалинке сидел человек, жуя крепкими зубами махорку. Яворы отбрасывали на него плотную тень, которая перемещалась по стрехе хаты всякий раз, когда сильный порыв ветра наклонял их кроны. Два тополя пронзали синеву стройными верхушками...
Пустынно тут было и одиноко, ни одной человеческой души вокруг. Все здесь разрослось как-то без меры, все выглядело переросшим... В окна заглядывали высокие, свисающие зеленые головы лебеды, вокруг остро пахло чабрецом... Чудовищные сорняки расползались дико спутанными стеблями, скручивались в плотно покрывающие землю жилистые густые сплетения, которые не расплел бы сам дьявол. В стволы яворов впивались мокрые, вечно несытые губы странных грибов, и сосали, сосали из них соки... Кладбищенская грусть скиталась по этой невероятно заросшей местности, печаль проникала в душу, затягивала странной тоской ясные, словно сияющие, просветленные глаза сидящего человека.
Задумался, забылся... Он был найденышем. Старый, наполовину одичавший смолокур нашел брошенного мальчика на краю бора, сжалился и повел в свою убогую хижину посреди столетней чащи. Им было хорошо вдвоем в одинокой смолокурне. Старик избегал людей, с которыми почти не общался, потому что чувствовал себя среди них непривычно. Лишь трижды в неделю он ездил с чумацким возом в соседний городок, да и то всегда спешил вернуться к своему Лаврику. Проходили годы, мальчонка вырос, возмужал и начал помогать смолокуру. Странным был мальчик Лаврик. Бывало, жарким летним днем пополудни, когда ста¬
- 52 -
рик, утомленный работой, засыпал где-то в тени, он садился на большой каменный выступ под дубом и вслушивался в тишину пущи. Блаженство великое и сила сходили тогда на него с этих буйных, расшумевшихся в громкой беседе стоящих вокруг деревьев, захватывали душу, входили в тело. Он вбирал все ее мощные, животворные соки, живительные силы, которые вздымают вверх деревья, множат всякого зверя, плодят людей. Пил жаждущими губами сей чудесный отвар, что брызжет благотворным запахом из целебных безмятежных трав, пьянит наслаждением. Поглощал эту медо-сытную манну, что жизнью и здоровьем одаривает, в девках, что потомства хотят, огонь распаляет, в мужьях жажду возжигает, старикам сил прибавляет. Так на него благословенная милость изливалась, силой наделяла — и он любил эту мать-природу, любил и почитал; всем ему она была: нянькой, родительницей, Богом... Язычник был. Верил в нее верой детской, такой, что не разбирается, не рассуждает, лишь с безграничной доверчивостью кладет голову на грудь возлюбленной, ибо покорная она и любящая. И вера эта была горячая и простая, сердечная преданность, поклоняющаяся одной лишь силе и прибавлявшая ему мощи. И так сливался с ней все крепче, напитывался ею, проникался. Не было травы целебной, которой он не знал, не было отравы, о которой не был предупрежден. Однажды смолокур застал его за тем, как он, обняв толстый явор, обросший космами мха, с великим почтением и любовью прижался к стволу. В другой раз пал лицом на землю перед вековым дубом и так пролежал до сумерек; а когда вернулся под вечер, весь сиял какой-то удивительной безмятежностью и спокойствием. Старик изумленно спросил:
- Что это с тобой?
— Молился, и сила снизошла на меня, — ответил Лавр и больше ничего не хотел отвечать.
С этого момента в смолокурне начались разные чудеса. Через несколько дней старик, рубя дерево в лесу, сильно порезал ногу, отчего кровь так и брызнула. Когда испуганный Лавр подбежал и дотронулся до раны, кровь перестала течь, а рана начала быстро затягиваться.
- 53 -
Через год они вдвоем выбрались на ярмарку в Собачьей Веске. На обратном пути повстречали у дороги какого-то бедолагу, все тело которого покрывали гноящиеся язвы и короста. Лавр сказал, чтобы он шел за ним до смолокурни, где несчастный остался на целую неделю. Каждый день с самого утра Лавр выводил его в лес; здесь он приказывал ему встать под каким-нибудь деревом, после чего протягивал руку и водил ею вдоль тела. После этого струпья отваливались, гноившиеся годами язвы заживали, бурно выбрасывая едкую зеленую слизь. Через неделю полностью выздоровевший нищий с благословением покинул уединенную смолокурню.
Весть об исцелении разнеслась по околице; прошло совсем немного времени, и люди из соседних сел и слобод начали собираться под глухой смолокурней. У Лавра сердце было сострадательное и кроткое, как у голубя, он хотел помочь беднякам, поэтому никому не отказывал. С утра до вечера работал без передышки.
Между тем старик умер; корявый ясень, свалившись под скобелем лесоруба, придавил его насмерть. Тогда Лавр бросил смолокурню, оставил лесную глушь и поселился на Яворовом острове, где и ему самому, и людям было удобнее. До полудня принимал больных, а когда солнце переваливало через середину небосклона, оставался один.
Год так прожил на своем отшибе. Полюбил печальный островок, проникся здешней тишиной и покоем. В серебряной утренней заре вставал с ложа и выходил перед хатой, чтобы все с тем же восхищением, с тем же молитвенным восторгом в глазах наблюдать чудо лучистого рождения. Каждый вечер прощался с пылающей зеницей солнца, спускающейся за край леса, пил жадными губами росную благодать небес.
Тем временем сорняки возле его дома разрастались все сильнее, крепли, становились выше и гуще. Он не трогал их, не выпалывал. Вот, наконец, вытянулись до стрехи, затянули стены, оплели дымоход... и совсем укрыли собой хату, захватили окрестные тропы. И Лавр потерялся среди них. Он уже не принадлежал себе: стал частицей острова, с ко¬
- 54 -
торым его словно связывали какие-то жилистые, набухшие кровью стебли, побеги, клубни, корневища. И растворился в извивах этих разбушевавшихся сплетений, потерялся в чудовищных зарослях.
Держали его могущественные узы; разорвать их означало уничтожить самого себя, сокрушить в прах, ибо слишком глубоко в душу запустили они своим побеги; вырвешь — кровью истечет сердце...
Иногда только посещали его странные желания, охватывала безбрежная тоска, стремление лететь куда-то на край света, к людям, к Солнцу, прижать к груди что-то широкое, что как птичка милая трепещет, что гибче и воздушнее, чем камыш, краснее, чем ягоды калины, окутать неприкаянную голову отшельника чем-то, что мягче льна, благоуханней мяты, насытить запекшиеся уста чем-то, что слаще меда, который с цветущей липы пресветлым соком сочится...
Дремала в сумрачных закоулках души неудовлетворенная жажда, бурлила время от времени пробуждаемая пылающим вихрем кровь, обильная силой жизни. Крепок он был, властен, сопротивлялся ее влечению...
Лавр Могучий не знал женщины...
И тогда греза сбылась. Перед ним в нескольких шагах стояла стройная дева, глядя наполовину с покорностью, наполовину с жаром, прячущимся в глубине искрящихся темных глаз.