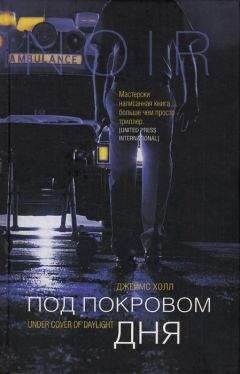Энн Райс - Кровь и золото
На память пришла кровь Эвдоксии в Константинополе, воспламенившаяся на полу святилища.
На память пришел бог друидов с черной, обожженной кожей.
И в следующее мгновение я понял, что воспламенилась и моя кровь, что, несмотря на выносливость кожи и костей, невзирая на силу воли, я горю – горю так быстро, с такой болью, что мне уже никак не спастись.
– Мариус! – в ужасе кричал Амадео. – Мариус! – Его голос звенел как колокольчик.
Выбирая направление, я не рассуждал.
Помню, что как-то добрался до крыши и что вопли Амадео и мальчиков остались далеко позади.
– Мариус! – в последний раз выкрикнул Амадео.
Я словно ослеп. Я не видел моих мучителей. Я не видел неба. В ушах раздавались предостережения Бога Рощи, произнесенные в ночь моего создания: я бессмертен, но меня могут уничтожить солнце или огонь.
Остаток сил я бросил на спасение жизни и в таком состоянии повелел себе перескочить через ограду садика на крыше и броситься вниз, в канал.
– Да, вниз, вниз, в воду, под воду, – проговорил я вслух, заставил себя выслушать собственный приказ, а потом как можно быстрее поплыл под смердящей водой, держась дна.
Смрадная жидкость охладила и омыла мое тело, а позади остался горящий палаццо, откуда похищали моих детей, где уничтожали мою живопись.
В канале я пробыл час, а то и дольше.
Огонь, разливавшийся по жилам, угас почти мгновенно, но я чувствовал себя так, словно с меня заживо содрали кожу. Когда я наконец выбрался на сушу, то прямиком направился к обитой золотом комнате, где стоял мой гроб.
Дойти я не смог.
Объятый страхом, я дополз на коленях до черного хода и отпер дверь – наполовину силой мысли, наполовину дрожащими пальцами.
Медленно пробравшись через длинный ряд комнат, я подошел к тяжелой преграде, закрывавшей вход в убежище. Не знаю, сколько времени я сражался с дверью, но отворилась она только под напором Мысленного дара, а не моих обожженных рук.
Наконец я сполз по лестнице в темноту и спокойствие золотой комнаты.
Казалось чудом, что я лежу рядом со своим саркофагом. У меня не осталось сил двигаться дальше, каждый вздох причинял боль.
Вид обгорелых рук и ног казался нелепой насмешкой. Потрогав пальцами волосы, я осознал, что их практически не осталось. Под загрубевшей черной плотью прощупывались ребра. Можно было не глядеться в зеркало, чтобы понять: я превратился в чудовище без лица.
Но, прислонившись к саркофагу и вслушавшись в тишину, я гораздо больше опечалился тем, что услышал голоса мальчиков, взывающих о помощи на отходивших в далекий порт кораблях, что Амадео умолял захватчиков одуматься. Однако ожидать от них проявления здравого смысла не приходилось. Бедные мои дети слышали в ответ только песнопения приверженцев сатаны. И я понял, что негодяи везут моих детей на юг, в Рим, к Сантино, которого я оскорбил, а потом так безрассудно отпустил.
Амадео снова попал в плен, снова стал заложником тех, кто хотел использовать его для достижения своих порочных целей. Амадео снова похитили и лишили привычного образа жизни, чтобы перевезти в какое-то ужасное место.
Как же я ненавидел себя за то, что не уничтожил Сантино! Что побудило меня сохранить ему жизнь?
Даже сейчас, рассказывая тебе свою историю, я его ненавижу. Ненавижу всем сердцем и буду ненавидеть всегда – ибо во имя сатаны он уничтожил все, что было мне дорого, отнял у меня моего Амадео, отобрал тех, кто находился под моей защитой, сжег палаццо, где хранились плоды моих фантазий.
Я начал повторяться, не так ли? Прости меня. Ты, конечно, понимаешь все тщеславие, всю бесконечную жестокость поступка Сантино. Ты, конечно, понимаешь, с какой разрушительной мощью он изменил течение жизни Амадео...
А в том, что течение его жизни бесповоротно изменится, я не сомневался уже тогда, когда лежал рядом с саркофагом. Понимал, потому что у меня не было сил вернуть своего ученика, не было сил спасти обреченных смертных мальчиков, которым были уготованы немыслимые пытки, не было сил даже выйти на охоту.
А если не выходить на охоту, как я обеспечу себя целительной кровью?
Я упал на пол комнаты и постарался утихомирить боль обожженной плоти. Я пытался только дышать и думать.
Я услышал Бьянку. Бьянка была жива.
Бьянка даже привела людей спасать наш дом, но он был безнадежно разрушен. Снова война и мародерство лишили меня прекраснейших вещей, которыми я так дорожил: я потерял книги, потерял записи – все мои дневники.
Сколько часов я пролежал так, не знаю, но когда я приподнялся, чтобы снять крышку с саркофага, то обнаружил, что ноги меня не держат. Сгоревшими руками мне не удалось даже приподнять крышку. Только силой мысли я наконец сдвинул ее с места, и то недалеко.
Я опять устроился на полу.
Мне было слишком больно двигаться.
Есть ли надежда пересечь мили, отделявшие меня от Священных Прародителей? Я не знал. И не мог без риска покинуть свое укрытие, чтобы выяснить.
Тем не менее я мысленно вызвал образ Тех, Кого Следует Оберегать. Я помолился им. Я представил себе Акашу как живую, как настоящую.
– Помоги мне, моя царица, – прошептал я вслух. – Помоги. Направь меня. Вспомни, как ты говорила со мной в Египте. Вспомни. Поговори со мной. Никогда еще я не страдал так, как сейчас.
И тут у меня вырвалась старая колкость, старая, как сами молитвы.
– Кто будет ухаживать за вашим святилищем, если я не восстановлюсь? – спросил я. Я дрожал от горя. – Акаша, любимая! – шептал я. – Кто будет поклоняться тебе, если я погибну? Помоги мне, направь меня, ведь по прошествии веков однажды ночью я могу тебе понадобиться! Вспомни, кто так долго о тебе заботился?
Но что толку говорить колкости богам и богиням?
Всей силой Мысленного дара я обратился к заснеженным Альпам, где построил тайное святилище.
– Моя царица, скажи, как мне попасть к тебе? Не может быть, чтобы столь страшное событие не нарушило твой безмолвный покой. Неужели я прошу слишком много? Я мечтаю о чуде, но не представляю себе, как оно произойдет. Я молю о милосердии, но не помышляю о том, в чем оно проявится.
Я знал, что совершил бы безрассудство, если не богохульство, умоляя ее оставить ради меня свой трон. Но, может быть, у нее хватит могущества каким-то чудом передать мне силу на расстоянии?
– Как мне вернуться к тебе? – молил я. – Как выполнять свои обязанности, если я не исцелюсь?
Ответом мне послужило молчание золоченой комнаты. Здесь было так же холодно, как в горном святилище. Я стал воображать, что альпийские снега прикасаются к моей горячей плоти.
Но мало-помалу ужасы начали отступать.
Кажется, я тихо и грустно усмехнулся.
– Я не могу добраться до тебя один, – сказал я, – без посторонней помощи, а как мне получить помощь, не выдав своей тайны? Не выдав секрета святилища Тех, Кого Следует Оберегать?