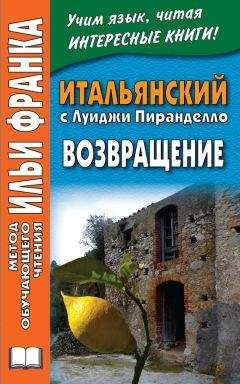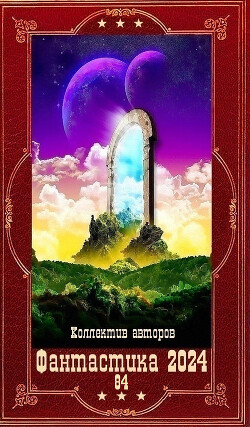Уиронда. Другая темнота (сборник) - Музолино Луиджи
– Лес. Твои новые зубы… Где они?..
– Шшш… Неважно. Вернемся домой и все будет хорошо, мы все уладим. Мы сбились с верного пути, дорогой, и сюда мы можем вернуться, когда захотим, потому что мертвые среды ждут тех, кто может их узнавать, и они повсюду. Больше не будем об этом, хорошо?
– Хор-рошо… хорошо… – Марио почувствовал, как тяжелеют веки; невзирая ни на что, теплые волны начали расходиться внизу живота до гениталий, вызывая эрекцию.
Вверх-вниз. Вверх-вниз.
Головка члена стала пульсировать в такт сердцу.
Мириам превратилась в далекое, невесомое, давно ушедшее в прошлое воспоминание. Остались только ее руки, пальцы, ладони, которые по-хозяйски распоряжались им, хрустя под слоем мышц и эпидермиса, как сломанные ветки.
О да, пальцы тут точно были.
Марио Аррас повернул голову и укусил подушку, чувствуя, что оргазм охватывает низ живота.
Сколько же у нее пальцев?
За несколько секунд до финала ему вдруг показалось, что кончики пальцев Мириам исследуют его изнутри, через задний проход; став эластичными, растягиваются и поднимаются по толстой кишке, как черви, мицелий, гифы, а потом забираются еще выше, в кишечник, в желудок, и еще, и еще, до самого мозга; содрогаясь в экстазе и от отвращения, он еще сильнее укусил подушку, и почувствовал что-то отвратительное в своем члене, в своих членах, словно их вдруг стало много, словно они превратились в мясистые щупальца, живущие своей жизнью.
Застонав и пару раз дернувшись в судорогах, он кончил и в каком-то смысле родился заново, стряхнул с себя все пережитое за последние часы и провалился в ватный пузырь удовольствия.
– Я тебя люблю, – прошептала Мириам ему в ухо.
У него не было сил ответить.
Встать.
Он тут же заснул, а лужи спермы застыли на бедрах и в паху, как патина плесени, древнего разлагающего гумуса.
Веки слиплись от ночных выделений, мозг сдавило кольцо шипов. Мириам собирала чемоданы, напевая какой-то мотивчик.
– Ты проснулся? Готов ехать? – радостно затараторила она.
Перед ним была прежняя Мириам. Кататония предыдущих дней исчезла с первыми лучами солнца, просочившимися сквозь шторы в грязный номер.
Блуждая в похмельном тумане, Марио не сразу вспомнил, что происходило вчера ночью.
Бар.
Грязный туалет.
Приступы рвоты.
Слезы.
Тараканы.
Страх.
Секс, поспешный, ненормальный, неестественный.
Слова, которые она прошептала в полутьме комнаты.
Мы сбились с верного пути, дорого́й. Не будем об этом… Я тебя люблю.
Спуская ноги с кровати, он пообещал себе, что больше никогда не будет пить. Даже пиво во время футбола. Ни капли.
– Извини… за вчерашнее, – начал он, чувствуя, как липкая слюна приклеила язык к небу.
– За что? – улыбнулась она. Во рту многих зубов не хватало.
Не будем об этом.
Ладно, не будем об этом. Уедем отсюда – и все.
– Да так… Да так. Ты хорошо себя чувствуешь?
– Очень хорошо, просто замечательно. Давай, поторопись, а то на самолет опоздаем.
Через два часа они заходили в аэропорт Клужа.
Стоя в очереди на регистрацию, Марио заметил супружескую пару из Италии лет за шестьдесят, с которой уже перекинулся парой слов в «Дентике». Интересно, как прошло их пребывание в клинике? Им тоже пришлось пережить что-то необычное? А главное, сколько лет они женаты? И все еще любят друг друга?
Пробираясь через толпу людей, скопившихся в аэропорту, он, как беспомощный старик, тащился следом за женой, которая решительно выбирала повороты и шагала по коридорам, ведущим к выходу на посадку.
За несколько минут до взлета она задремала. Он сидел у крыла, рядом с иллюминатором, смотрел на молоденьких стюардесс, заученными движениями показывающих, как застегивать ремень безопасности и надевать кислородную маску, и думал о соблазнительных округлостях, подчеркнутых костюмчиками в обтяжку.
Когда самолет оторвался от земли, Марио прилип носом к иллюминатору; здание аэропорта и городские дома быстро уменьшались, потом исчезли из вида, потянулись жалкие пригороды, убогие деревенские домишки, и, наконец, холмы и леса. Густая листва сверху напоминала гигантский ковер.
Он представил себе великанов и извилистые, как кишки, тропинки, которые ползли под ветвями, представил чудищ из народных сказаний и безбородых вампиров, обитающих в чаще, куда никогда не проникает солнце, – интересно, их самолет случайно не будет пролетать над лесом Хойя-Бачу?..
Потом посмотрел на жену.
Она бормотала что-то во сне, а в тех местах, где должны были быть импланты, виднелись дыры.
Шепчущий голос казался безжизненным, словно шелест песчинок и листвы.
«Nici o moarte nu-mi poftesczzz…»
Еле слышная.
Грустная и мелодичная песня.
Вдруг рот Мириам резко закрылся – захлопнулся как капкан, – и Марио не успел понять, слышал ли он эту мелодию раньше.
Через несколько часов они вошли в свою квартиру, где жили уже пятнадцать лет, словно в чужую.
Все стало как раньше, но совсем по-другому.
Мириам снова пропадала в офисе с утра до вечера; работала сверхурочно, решала какие-то проблемы с поставщиками, возвращалась домой поздно, уставшая, надеясь, что следующий день будет легче и спокойнее. Она почти ничего не ела. Только мюсли, салат и сухофрукты. Объясняла, что просто не хочет. Но не худела. Говорила редко; казалось, у нее стало еще меньше зубов, чем перед отъездом в клинику. После ужина молча сидела в гостиной и с отсутствующим выражением лица смотрела на экран телевизора, положив безжизненные руки на колени и тихонько шевеля губами, словно бубнила себе под нос считалку. Как манекен в пятне цвета. Иногда Марио незаметно подкрадывался к ней и прислушивался, не сомневаясь, что, говори она чуть погромче, он обязательно услышит из беззубого рта песню румынского пастуха.
Когда сумерки окутывали квартиру, которая еще совсем недавно была их любовным гнездышком, Марио казалось, что Мириам высовывает язык, как геккон или ящерица, и облизывает собственные глаза.
Жена начала вызывать у него отвращение, и он старался ее избегать; у Мириам появилась какая-то неприятная аура, распространявшаяся по квартире, словно миазмы; казалось, она высасывает из него энергию, как вампир – кровь, и каждое утро он с радостью ждал, когда она уйдет на работу. Марио не решался признаться самому себе, что под отвращением скрывается страх, который день за днем точил его, будто червь, подталкивая к пугающему в своей простоте выводу – это не его жена. Точнее, его и в то же время не его, словно настоящую Мириам заменили на другую, безжизненную депрессивную голограмму. Порой она становилась прежней, разве что была апатичной и вялой, а иногда разительно отличалась от женщины, которую он знал двадцать лет – тем, как двигалась, как и что говорила.
Пару раз Марио пытался спросить у нее о Луане – коллеге, предложившей Мириам поехать в «Дентику», но в ответ жена лишь озабоченно хмурилась и бубнила что-то неубедительное: ей явно не хотелось разговаривать о поездке в Румынию. Казалось, она вообще предпочла бы о ней забыть, как о чем-то неважном, хотя еще совсем недавно они надеялись, что миниотпуск поможет им наладить отношения. И лишь однажды вспомнила о Румынии, упомянув «тех детей с гнилыми зубами, которые, как кроты, ползают по канализациям Бухареста и являют собой зеркало человеческой расы».
А он, наоборот, не мог забыть ту поездку. Честно говоря, только о ней и думал. Спрятался в жалком коконе молчания, тронутом ржавчиной души. Даже не хотел больше смотреть футбол. Спал плохо и мало; снилась ему совершенная бессмыслица – как будто он бегает по тропинкам, сохранившимся с незапамятных времен в чаще такого же древнего, вечного, чужого леса, которому нет конца. Снились лабиринты из кустарников-паразитов и растений с миллионами ответвлений, уходящие корнями в землю, где в пещерах, населенных всякими тварями, гниют трупы червей из неземного мира. Во сне его все время кто-то преследовал, кто-то наблюдал за ним сквозь листву. А когда он поворачивался, чтобы посмотреть, кто это, всегда видел одно и то же – самого себя. Другого себя – здорового, счастливого, с копной волос на голове, с телом атлета, человека, наслаждающегося жизнью во всех ее проявлениях, одетого дорого и элегантно; и он пытался подойти поближе, к тому, второму Марио, красавчику, но тот тут же дряхлел, покрывался плесенью, одежда, испорченная сыростью и насекомыми, повисала лохмотьями, цветущее лицо старело и раздувалось, превращаясь в сгусток склизкой тухлятины, а потом высыхало и становилось черным, как забытый в пиалке мандарин, наконец все тело рассыпалось в прах, и оставалась только горсточка костей и тряпья. Тогда он просыпался, начиная задыхаться и чувствуя, как больно першит в горле, и глядел на Мириам. В ее храпе слышался шелест прелых листьев, которые ворошит настойчивый ветер, шорох жуков под корой дерева, стук капель дождя и градин по сломанным веткам, там, в лесу Хойя-Бачу.