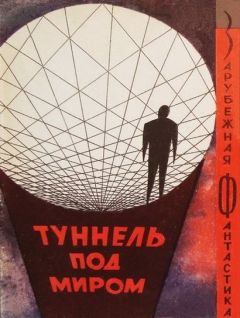Елена Щетинина - 13 ведьм (сборник)
Никто не мог знать, что Рено сделал с пленницей. Эту тайну он хранил ревностно, никого в нее не посвящая. Знал ли Саладдин? Это было уже неважно.
– Это я сделал, – без тени сомнения подтвердил Рено.
– Что бы ты сделал со мной, окажись я в твоих руках? – спросил Саладдин.
Искра надежды затеплилась в де Шатильоне. Надежды на достойную смерть.
– Я бы обезглавил тебя.
Саладдин задумчиво кивнул. Удар сабли был резким и сильным – одним движением из ножен. Дамасская сталь рассекла гортань и позвонки, отделив голову от тела одним ударом. Султан Египта, объявив Рено своим личным врагом, собственноручно оборвал его жизнь. Голову франкского бедуина должны были забальзамировать и провезти по базарным площадям всех городов во владениях султана, а тело – оставить на растерзание стервятникам и шакалам.
Но прошел год, и Рено де Шатильон пришел в себя. В кургане христианских трупов, что сложили сарацины в месте битвы, он, словно могильный червь, прокладывал себе путь среди разгрызенных костей и усохшей плоти. Он не понимал кто он и что делает, он двигался к свободе, жаждая лишь вырваться из смрадного плена общей могилы. И когда чистый воздух вошел в его легкие – словно первый вдох новорожденного, – он закричал, терзаемый нестерпимой болью.
Болью возвращения.
И крик его разнесся над мертвой равниной, и забытое уже имя эхом отразилось от камней.
– Зачем ты пришел ко мне? – снова спрашивает ведьма. – Чего ты ищешь?
Бессильный, рыцарь падает колени. Тяжелый меч со звоном ударяется о каменный пол.
– Забвения. – Голос его дрожит. – Я больше не в силах. Тень жизни, что есть у меня, приносит лишь муки. Мне нет места на этом свете.
– А с чего ты решил, что я могу дать тебе забвение? – В голосе Силенции – насмешка.
Рено обхватывает руками голову, сгибаясь в агонии.
– Ты… ведь ты сотворила со мной это! Ты возвратила меня с того света!
Вдруг темнота озаряется короткой вспышкой. Небольшая свеча загорается, и дрожащий язычок пламени освещает пространство перед рыцарем. Там стоит женщина, одновременно похожая и на сирийку, и на гречанку. Старость уже коснулась ее – волосы поседели, черты заострились, а лицо покрыла густая сетка морщин.
– Разве хоть раз мои чары шли тебе во вред, Рено де Шатильон? Разве все беды твои были не от того, что ты поступал против моего совета? Я была верна тебе до последнего дня. Но после твоей смерти… ты попал в руки владыки неизмеримо более могущественного, чем я.
Рыцарь распрямляется, вперив в нее пустой взгляд. Мучительные мгновения он смотрит на нее, не понимая.
– Это – твой ад, Рено де Шатильон. Плата за пролитую тобой кровь.
Свеча гаснет, оставив лорда Крак-де-Моав в кромешной тьме. Его крик, дикий, исполненный невыразимой тоски, разносится над руинами замка, разбудив эхо во множестве пустых палат и коридоров. Холодные камни отражают его, многократно усилив, и в ответ множество призраков, чудовищно уродливых, начинают шевелиться в темных глубинах этого проклятого места.
Рыцарь подбирает упавший меч и встает с колен, опираясь на него, как на костыль. Оглядывается, ничего не увидев во мраке. Хромая, бредет к выходу. Поднявшись на вершину башни, крестом раскидывает руки, чувствуя, как ледяной ветер пронизывает его усталую плоть. Он видит, как внизу, у стен, клубится тьма. Ненасытная, способная принести ему страданий семикратно в сравнении с теми, что сам он причинял, будучи живым. Спасения нет.
Хриплый крик возносится к небу:
– Я – Рено де Шатильон! Лорд Трансиордании! Хозяин Крак-де-Моав! Рено де Шатильон!!!
Михаил Павлов
Руки моей матери
Я слушал длинные гудки и ждал, когда мама наконец-то возьмет трубку. Не взяла. Наверное, просто не услышала. Только я уже представил, как она сидит на своей застеленной кровати, как рядом вибрирует и звонит телефон, и мама смотрит на него своими прозрачными серыми глазами, на экране мое имя, поэтому она не двигается. Конечно, это перебор. Просто не услышала.
Я отложил мобильник, попробую потом дозвониться. Улегся на диван, посмотрел в потолок, затем обвел взглядом комнату, просторную и почти пустую. Вещей у меня было немного, переезжал налегке. Рабочий стол покрывали раскадровки, аппаратура и снимки с красноватыми, почти марсианскими пейзажами. На кресле под скомканным свитером лежал открытый кофр с объективами. У стены на полу стояли стопки с книгами, никуда без них не могу, давно пора бы расставить по пустым полкам. Я снова взял телефон и позвонил старшему брату. Трубку сняли почти сразу, Кирилл явно соскучился, посыпались вопросы, как поездка в Австралию, как житье в Москве. Ну а я с удовольствием рассказал про пустыню Стшелецкого, про съемки, про то, что сейчас монтаж идет полным ходом, чтобы успеть к кинофестивалю, и про то, как страшно выдавать на суд критиков свою первую серьезную работу. Что уж говорить о режиссере и сценаристе – юной выпускнице ГИТРа, вот уж кто сейчас на взводе. Пока мы говорили, я вскочил с дивана, прошелся по комнате, перебрал фотографии с красными песками и плюхнулся на стул рядом со столом.
– Да по фиг, что там критики скажут! Тебе самому нравится? – спросил брат.
– Божечки! Да я сам не знаю уже! – У меня вырвался смешок. – Вроде нравится. В Австралии вообще в восторге был, когда смотрели отснятый материал! А сейчас даже немножко побаиваюсь снова идти в монтажную.
Мы поговорили еще немного, посмеялись, я пообещал скинуть фотки и наконец спросил про маму.
– Как раз вчера к ней заезжал. Все хорошо у нее, в основном сейчас у Ленки торчит, возится теперь с ее малышней. Мой-то уже большой. Ты б заехал, недолго же от Москвы, проведал бы нас.
– Ну как уж время будет. Я тут маме звонил, но она не взяла.
– Не слышала, наверное, – без особой уверенности сказал он.
– Наверное.
Я все еще улыбался, но уже чувствовал, как настроение соскальзывает вниз. Мы попрощались. Я встал, пошел на кухню, думая, как бы побыстрее переключиться на мысли повеселее. Я знаю, у нас хорошая семья. Многие позавидуют, пожалуй. И даже тот факт, что родители развелись, не очень портит картину. Пятерых детей вырастили и разошлись, в общем-то, по-человечески. А семья все равно крепкая. Старшие Кирилл и Лена в Туле живут, как и мама. Катька, самая младшая, недавно укатила поступать куда-то в Северной столице – девчачья болезнь по Питеру. А я вот вроде какой-то непонятный предпоследний, болтаюсь по свету без места. Хотя, может, осяду теперь в Москве, кто знает. В любом случае, мы все общаемся, ссоримся и миримся, всегда как-то вместе, всегда держимся друг за друга – только вот мы с мамой… Не знаю.
На кухне сделал себе бутер с помидором и сыром. С сыром вообще все лучше. Настроение тоже. Запил из чайника, посмотрел в окно на зеленый щебечущий двор и решил ехать к Инге. Позвонил ей уже на улице. По сути, монтажом она занималась сама, но опыта было маловато. Мы просидели до позднего вечера, она курила, я нет, потом я, потирая уставшие глаза, угостился предложенным пивом из холодильника и поехал домой, оставив юного режиссера с сосредоточенным лицом перед мониторами. Мне нравилось с ней работать, эта ее манера вдумчиво вслух разбирать все предложения – очень серьезная девочка. Большую часть моих идей она называла «тупо выпендреж», но фильм был снят на кодаковскую Вижин 250D 5246 в ярких перенасыщенных тонах, как я хотел, и одно это мне уже очень льстило.