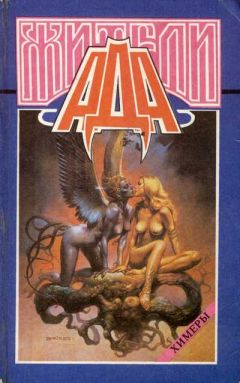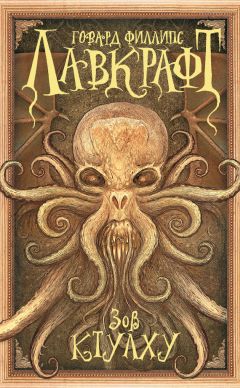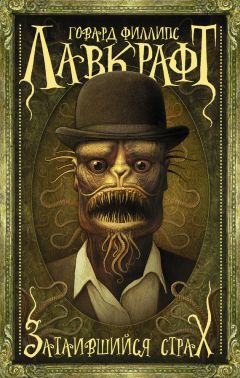Говард Лавкрафт - Запертая комната

Обзор книги Говард Лавкрафт - Запертая комната
Говард Филлипс Лавкрафт
Запертая комната
I
С наступлением сумерек дикая и пустынная местность, словно стерегущая подходы к поселку под названием Данвич, что находится чуть севернее центральной части Массачусетса, начинает казаться еще более безлюдной и угрюмой, чем днем, Приглушенный свет придает опустевшим полям и куполообразным холмам за ними некоторую необычность, даже загадочность, и привносит в окружающий ландшафт некий элемент пронизывающей, настороженной враждебности. Вековые деревья и окаймленные зарослями вереска каменные стены, почти вплотную прижавшиеся к пыльной дороге; топкие болота, испещренные мириадами светлячков и наполненные непрерывными, жалобными криками козодоев, бормотанием лягушек и пронзительным пением жаб; извилистые повороты русла Мискатоника, несущего свои воды между темными холмами в сторону моря — все это буквально окутывает одинокого путешественника плотным и сумрачным покрывалом, словно стараясь удержать его в своей власти и лишить малейшей возможности к бегству.
Направляясь в Данвич, Эбнер Уотелей вновь испытал на себе магическую силу этих мест, как испытал ее тогда, когда он, в далеком детстве, объятый ужасом, бросился однажды к матери, умоляя увезти его и из Данвича, и от деда Лютера Уотелея, у которого они в то время гостили. Как много лет прошло с тех пор! Столько, что он и счет им забыл. И все же ему было странно, что эта местность по-прежнему оказывает на него столь сильное воздействие, просачиваясь сквозь череду прожитых лет, наполненных пребыванием в Сорбонне, Каире и Лондоне, и словно полностью игнорируя все то строгое, академическое образование, которое он получил уже после того, как прекратил наносить визиты старому и угрюмому деду Уотелею, жившему в своем древнем доме, сросшемся со стоявшей на берегу Мискатоника мельницей. И все же это были места, где прошло его детство, и которые вновь возвращались сейчас из тумана времени, так что ему даже казалось, что он лишь вчера посещал здесь своих родных.
Всех их давно уже нет в живых. Ни матери, ни деда Уотелея, ни его второй дочери, тетушки Сари — ее он, правда, никогда не видел и знал только, что она жила где-то в их большом старом доме, — ни мерзкого кузена Уилбэра и его ужасного брата-близнеца, которые встретили свою жуткую смерть на вершине Сторожевого холма. И все же сейчас, проезжая по избитому и отчаянно неровному мосту, он отчетливо видел, что Данвич совершенно не изменился. Его центральная улица все так же окаймляла подножие маячившей в отдалении Круглой горы. На месте остались и ветхие, покинутые дома с подгнившими и кое-где провалившимися двускатными крышами, в старинной церкви со сломанной колокольней все так же размещался единственный в деревне магазин, а над всем этим зависала плотная, легко уловимая атмосфера упадка и запустения. Он свернул с главной улицы поселка и по изъезженной дороге поехал вдоль берега реки, пока не увидел большой, замшелого вида дом, который казался несколько непропорциональным из-за прилаженного к нему со стороны реки большого мельничного колеса. Ныне, в соответствии с завещанием деда Уотелея, это была уже его частная собственность, причем перед смертью старик особо оговорил в документах, что если внук захочет поселиться в доме, то он должен будет предпринять необходимые меры по ликвидации отдельных его частей , которые сам дед не успел завершить. Довольно странная оговорка, подумал тогда Эбнер, хотя, если разобраться, в личности старого Лютера Уотелея почти все было странным, как если бы упадок Данвича коснулся и его своим леденящим крылом.
Но самым нелепым в завещании был именно тот пункт, где особо оговаривалось, что ему, Эбнеру Уотелею, надлежало прекратить свои блуждания по свету и исполнить предписанные дедом распоряжения относительно дома, хотя и слепой мог бы заметить, что само по себе строение едва ли заслуживало всех тех сил и времени, которые неизбежно ушли бы на его вышеупомянутую реконструкцию. Кроме того, он совершенно отчетливо представлял себе, что некоторые из родственников, которые и поныне проживали в самом Данвиче или поблизости от него, едва ли обрадуются его возвращению в их причудливый, но вполне устоявшийся мир уединенной сельской жизни, которая была характерна для большинства Уотелеев, особенно после тех кошмарных событий, которые потрясли ее провинциальную ветвь на Сторожевом холме.
На первый взгляд, дом совершенно не изменился. Его обращенное к реке крыло в незапамятные времена было переоборудовано под мельницу, но мельница уже давно перестала функционировать, поскольку окружавшие Данвич поля и угодья с каждым годом все больше превращались в бесплодные пространства. Особое место в доме занимала лишь одна комната. Она располагалась непосредственно над водяным колесом и была комнатой покойной тети Сари. Другие же, выходившие к Мискатонику своими окнами комнаты были практически заброшены уже в годы его детства, когда Эбнер Уотелей в последний раз гостил у деда, жившего там в полном одиночестве, если не считать столь загадочной для юного отпрыска рода Уотелеев второй дочери Лютера. Дверь ее комнаты была постоянно заперта, сама она никогда не выходила, и лишь смерть избавила ее от подобных жестоких ограничений.
Опоясывавшая жилую часть дома веранда заметно просела, и с решетчатой конструкции под карнизом свисала густая паутина, к которой годами никто не прикасался, если не считать редких порывов ветра. Все было покрыто толстым слоем пыли как снаружи, так и изнутри, причем последнее особенно бросилось в глаза Эбнеру, когда он отыскал на переданной ему адвокатом связке нужный ключ. Войдя в дом, он нашел лампу — старый дед презирал электричество — и зажег ее. В желтоватом мерцании света он разобрал очертания старой кухни с ее утварью девятнадцатого века и невольно поразился тому, что так все хорошо сохранил в своей памяти. Просторное помещение, срубленные вручную стол и стулья, стоявшие на камине древние часы, потертая метла — все это сейчас олицетворяло собой зримые следы его детских воспоминаний и давних, сопровождавшихся смутным страхом визитах в этот грозный дом и к его еще более грозному хозяину.
В свете лампы он обнаружил кое-что еще: на кухонном столе лежало письмо, адресованное лично ему, о чем свидетельствовала начертанная на конверте надпись, исполненная чуть угловатым и неимоверно корявым почерком, который мог принадлежать лишь такому старому и дряхлому человеку как его дед. Отложив на время процедуру переноса вещей из машины в дом, Эбнер присел у стола, предварительно смахнув с него, а также со стула пыль, и распечатал конверт.