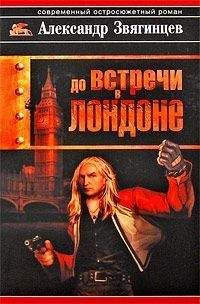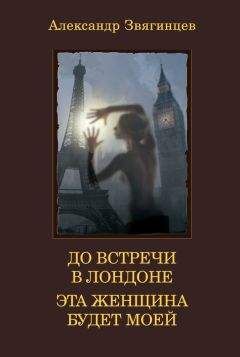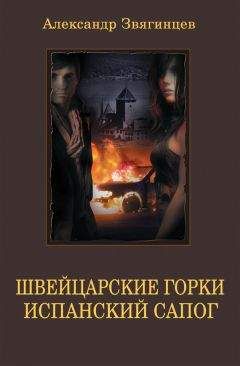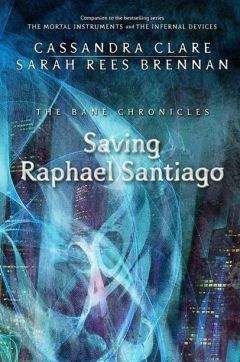Сергей Михеенков - Пречистое Поле
Кто-то прошел вдоль штакетника. Осипок затаил дыхание, вгляделся изо всех сил. У него даже голова кружиться Перестала. Какое-то время он видел за белеющей полосой штакетника высокую темную фигуру человека, одетого во что-то длинное, похоже, в пальто или плащ. «Да ктой-то там сметает», — подумал он, и другой его мыслью было: затворены ли на завалку ворота, а то, чего доброго… С добром о такую пору не приходят. Потом, пообвыкшись, он решил выйти во двор и покараулить ночного ходока.
Накинув на плечи фуфайку и тихо; чтобы не скрипнула, не дай бог, ни одна, ни другая дверь, вышел на крыльцо. Двери не скрипнули, не выдали хозяина, недаром он так щедро смазывал время от времени автолом петли. Автола у него в сарае целая десятилитровая канистра стоит, у шоферов командированных за бутылку самогона выменял вместе с посудиной. «Еще б они у меня вякнули», — подумал довольно Осинок и босиком, даже не подвязав оборок, пошел по бетонной стежке к калитке, белевшей невдалеке под нависавшей сиренью.
Должно быть, время было уже такое, что вот-вот и развиднять станет. Вышла поздняя и необычно большая, так что закрыла собою половину неба, луна; вышла и зависла над прудом, озаряя тягучим красноватым светом его, Осипкову, усадьбу, прилегающий к ней луг за огородом и мертвые в этот чае стога лип вокруг. От пруда наволокло тумана, и в этом смутном месиве тьмы и света не больно-то чего разглядишь и в трех шатах, но Осипок хорошо видел и в этой мутной наволочи.
Осипок вышел за калитку и пошел по стежке округ хлевов, но не следом за исчезнувшим там давеча человеком, а навстречу ему. Осипка не проведешь. «Если ты тут, — подумал Осипок, водя глазами по сторонам, — если не ушел прочь, то как раз мне и попадешься. На стежечке и попадешься. Меня — как воробья на мякине?.. Не-ет, меня так не проведешь».
Но Осипок все же пропустил того, кого искал. Перенадеялся Осипок на свое зрение, хитрость и ловкость.
Шел» шел, крался, крался и вдруг, как на столб, не к месту поставленный, в той кромешности наткнулся на окрик:
— Это ты, Осип?
Старик вздрогнул от неожиданности, остановился и, повернув голову и чувствуя, как заскрипели шейные позвонки, видать, от напряжения и страха, увидел обочь стежки, по которой только что прошел, под липой, как раз в том месте, где луна светила особенно ярко, высокую фигуру человека, одетого и впрямь во что-то серое, долгополое.
— А? — переспросил Осипок, будто не поняв вопроса незнакомца; он все еще не пришел в себя к собирался с духом.
— Я спрашиваю, ты ли это, Осип Дятлов? Ты ли, пулеметчик третьей роты первого батальона тысячу сто сорок…
«А голос-то, — кольнуло Осипку в самое сердце, — голос ведь знакомый. Не свой, не пречистопольский, а — знакомый. Да кто же это так-то, пулемётчиком третьей роты, меня окликает?.. Тьфу, растудыт-твою! Так это ж блазнит мне», — догадался вдруг Осипок и ворохнул рукой. Но тело все занемело, руки слушались плохо. И снова, как давеча, в доме, когда внезапно навалилась мысль о смерти, одеревенели и высохли губы. «Нет, видно, не блазнит, — подумал с трудом пропуская через свое сознание новые, вспухшие до невероятности, мысли. — Топора-то, дурак, в сенцах не взял…»
И тут неподвижно стоявший под липой снова окликнул его:
— Подойди ко мне, Осип. Ты хоть и молчишь, а я тебя узнал. Подойди. Ноги-то у тебя вроде всегда легкие были. Крепкие. Ловок же ты, сосед, оказался, судьбу обошел, а пуля тебя вроде как и сама облетела. Не ранен. Не убит. То, что болело, зажило скоро. Душу продал. Еще смолоду продал. Легко живешь. Богатеешь. Ну, что стоишь, Осип Дятлов?
Но Осипок будто врос в землю. «Надо бы бежать, — подумал он, суматошно соображая, что же делать дальше, как быть, — побежать куда-нибудь, куда глаза глядят, хоть во двор, что ли, в хлев к корове, да на крюк затвориться. Крюк там добрый, надежный, недавно из кузни принес, кувалдой в лутку вбивал. И пробой длинный, с усом. Такой и клещами не возьмешь. Да и присад хам крепкий, свежий. Все там свежее. Навек строено. Там искать не догадается». Мгновения длились и становились секундами, секунды переливались в минуты — так шло, уходило время. А Осипок все стоял посреди стежки, белевшей под луной так же отчетливо и даже ослепительно-отчетливо, как и его кальсоны с незавязанными оборками. Время уходило, и тот, стоявший под липой, видать, устал ждать и двинулся навстречу сам. Осипок вслушивался в его громкие шаги. «Так, — подумал он, — ходят только по родной земле». Но понять до конца, кто же это к нему пришел, не мог.
— Кто меня кличет? Кто ты? — спросил, наконец, Осипок, кое-как пересилив себя.
— Я, — послышалось тут же в ответ, — Григорий Михалищин. Твой напарник по Десне. Не забыл Десну? Осень сорок первого? Заслон?
— Осень сорок первого?.. Напарник?..
— Тогда, на Десне, я тебе, Осип, не просто напарник был, а брат, — сказал Григорий и вплотную подошел к Осипку и в дрожащем свете луны увидел его бледное, в старческих морщинах, лицо, искаженное испугом, страхом.
— Какой еще брат? Нет у меня братьев. Нет никаких братьев. Ты — чёрт. Вот ты кто! Тьфу, нечистая!
И Осипок начал креститься, торопливо, размашисто. Григорий засмеялся глухим сдержанным смехом.
— Э, Осип, не тебе эти песни петь. Ты ж, кажись, ни в бога, ни в черта… Или, проживши жизнь, решил о душе подумать? А ведь не получится у тебя ничего. Ты вон и крестишься неправильно. Справа налево надо, а ты — наоборот, — голос у Григория стал твердеть. — Уж если молишься, то как следует молись. Молитву прочитай. Да на колени, на колени! Слышишь, ты, гад! На колени, кому говорю! Вот так. Теперь молитву читай. Может, и поможет. Только вряд ли. Молитвы тебе уже не помогут. Ты все уже переступил.
— Господи, господи, — забормотал Осипок, повалившийся на колени, — господи, избавь меня. Избавь, избавь, избавь…
— Э, да ты и не знаешь молитв. Бога из корысти вспомнил. Бог, он в тебе с самого начала задохнулся. Не жил он в тебе, бог. А раз так, то незачем и кривляться. Церковь на фундамент ломал? Ломал, говори? Ломал, знаю. Первый пошел. Ты да Утёнок. У кого, скажи-ка мне, в Пречистом Поле фундаменты из Всех Мучеников? Ни у кого. У тебя да у Утёнка. Из всего Пречистого Поля только два святых нашлось. Оба святы, да оба и косматы. Вставай-ка, Осип, вставай. Незачем тебе молиться. Нет в тебе веры. Ты не людьми говорить не научился, а с богом… Ты, Осип, лучше не суйся к богу со своим нечистым языком. Весь ты, Осип, в грехе погряз. И искупить его тебе, как вижу, нечем. Я тебе Десну припомнил, а ты язык сразу и прикусил. Где тогда твой бог был, когда мы с пулеметами там, на берегу, остались? Я ведь о тебе, что ушел, комбату не доложил. Пожалел. Думали мы с Иваном, что придешь еще, приблудишь. Не пришел. И как же ты нам отплатил? А, земляк? Над нашими бабами измывался. Над солдатками.
— Прости, Гриша, испугался. Ты ж знаешь, каково тогда было, — охнул Осипок и стал хватать Григория за мокрые от росы полы шинели. — Мы ж тогда думали, что всё, окончена для нас война, что немец через месяц-другой всю державу подомнет под себя. И мы ничего уже не сможем поделать.
Даже со своими пулеметами — ничего. А сколько у нас было тогда пулеметов? Раз, два и обчелся. Винтовки без патронов… Повоюй попробуй со штыком против танков. Ты ж, Григорий, и сам тогда думал, что не сладим мы с этой силой. Ну, признайся, думал?
— Мы с Иваном окопы и пулеметы не кинули. До самой последней возможности. А то, что ты испугался… Да, страшно было. Только не одному тебе было страшно. Ладно, разберемся. Утром разберемся. Утром все придут. Все. Вот и решим, что с тобой делать. Им тоже было страшно. Только они окопы не бросали. Ты им в глаза посмотришь.
— Я искупил! Я ж искупил свою вину, Гриша! Кр-ровью!
— Искупил? Нет, Осип, ты своей вины вовек не искупишь. Помнишь, пехотинцев наших на той переправе немцы посекли из пулеметов? Считай, что это ты их там оставил. Ты, Осип. Ты.
— У меня тогда пулемет заклинило.
— Врешь. Иван твой пулемет проверял. И патроны все целенькими остались. А мы с Иваном надеялись, что ты нас прикрываешь. У, гад! — Григорий замахнулся, но ударить не ударил. Осипок втянул голову в плечи и закрыл глаза. — Моя б воля, я бы тебя — без суда…
— Я в штрафной роте… Гриша, может, ты не знаешь, я ж в штрафной роте воевал. Искупал. Кровью искупал. Шесть разов в атаку ходил. По шесть атак чтобы, редко кто, Гриша… А я ходил. Я все искупил. Всю вину.
— Ты думаешь, время прошло, все шито-крыто? Никто Десну тебе не напомнит? Никто за полицейскую повязку не спросит? А как ты солдаток… Тоже, думаешь, забыто? Герой войны… Орденоносец… Перед пионерами небось выступаешь? Ну? Говори, выступаешь перед пионерами? — Григорий нагнулся к нему, схватил за ворот белой нательной рубахи, рванул на себя, и тот, задыхаясь и хрипя, закивал:
— Выступаю, Гриша. Было раза три. Нет, два. Два раза всего выступал. Перед праздниками. Два. Два раза, Гриша.